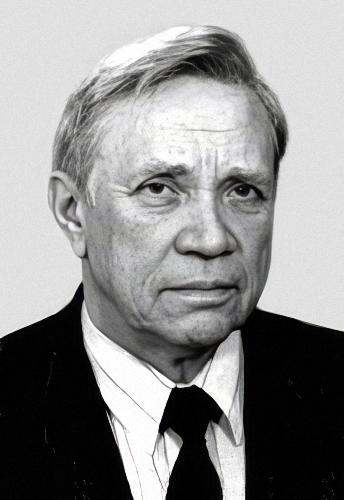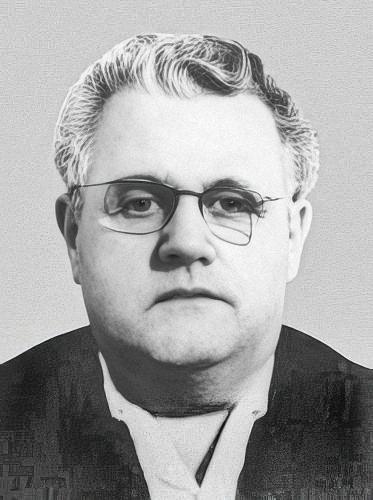|
|
|
|
|
|
|
|
|
Под общ.ред. А.В.Дегтярева
Днепропетровск 2011
Наш адрес: ruzhany@narod.ru |
|
На этой странице сайта:
* * *
Юрий Петрович ПАНКРАТОВ, «УКРАИНСКИЙ КОРОЛЕВ» Расскажу о нескольких эпизодах, когда мне лично приходилось общаться с Михаилом Кузьмичом и которые запомнились на всю жизнь. Познакомился я с ним в нашем бывшем министерстве на площади Маяковского в марте 1958 года. Я пришел туда после окончания МАИ с просьбой, чтобы меня направили на работу в любой город Союза, но с предоставлением жилья. До этого я был распределен в КБ В. П. Макеева в Златоуст, но там мне обещали жилье только через год, а у меня жена уже готовилась к родам. Инспектор по кадрам Людмила Дмитриевна к моей просьбе отнеслась очень внимательно и, предложив посидеть, сказала: «Сейчас от министра выйдет Михаил Кузьмич Янгель, и он обязательно сюда зайдет. Я Вас ему представлю. Ему как раз нужен специалист Вашего профиля». Я окончил факультет авиационного вооружения по специальности «Прицельно-вычислительные установки и специальное электрооборудование». Кто такой Янгель, я тогда не имел понятия. Мы, как студенты МАИ, хорошо знали всех авиационных конструкторов, краем уха слышали, что к недавнему запуску первого искусственного спутника Земли имеет отношение некто С. П. Королев. Людмила Дмитриевна на мой вопрос: «Кто такой Янгель?» ответила: «Янгель – это украинский Королев. Так что ехать Вам придется не на Урал, а на Украину. Я смотрю, в Вашей анкете написано, что Ваш отец родом из Запорожья, – значит поедете в родные пенаты». И вот в приемную вошел Михаил Кузьмич, с бессменной, как потом выяснилось, сигаретой во рту, высокий, слегка сутулый, прическа «ежиком», волосы с легкой проседью и, как мне показалось, с хитрой, но добродушной улыбкой. Он, как старому знакомому, протянул мне руку со словами: «Это Вы меня ждете? Ну, привет, однокашник. А у меня и сын поступил в МАИ. Работу интересную обещаю сразу, а вот жилье придется подождать до осени. По рукам?». Так состоялось мое знакомство с этим удивительно симпатичным человеком, который сразу меня покорил какой-то простотой и душевностью. Естественно, я, не раздумывая, согласился с его предложением и получил направление в ОКБ-586. Следующая личная встреча состоялась осенью того же года. Вызывает начальник отдела, заместитель Главного конструктора В. А. Концевой и говорит, что меня для разговора приглашает к себе Михаил Кузьмич. Янгель поинтересовался, как работается, как решился вопрос с жильем, с каким пополнением семьи можно меня поздравить. Пообещал в течение 1959 года улучшить жилищные условия (мою семью сначала поселили в комнатку площадью 8,5 кв. м в коммунальной квартире на трех хозяев). Затем он сказал: «Уткин хорошо отозвался о вашей совместной работе в течение лета по замене трудоемкой операции по вертикализации ракет на операцию «горизонтирование». Поэтому я хочу поручить тебе и еще нескольким товарищам новую трудную задачу. Я вас всех соберу в конце дня и расскажу подробно, что от вас требуется». До вечера я ломал голову, какое задание он нам даст, и кто со мной еще будет работать. К вечеру наша рабочая группа определилась. В нее вошли: В. И. Моссаковский – специалист по нагрузкам и прочности, Ф. И. Кондратенко – специалист по аэрогазодинамике и теплообмену, В. В. Орлинский – специалист по конструкции наземного оборудования и я, как специалист по динамике старта и управлению ракеты (хотя «специалистом» назвать меня тогда можно было условно). Михаил Кузьмич рассказал нам о чрезвычайной важности замены наземного старта боевых ракет на шахтный. Подчеркнул, что этот вопрос инициирован лично Н. С. Хрущевым и находится у него на контроле. Янгель попросил нас в меру своих сил и знаний срочно проработать этот вопрос, провести предварительные исследования и определиться для начала с кругом задач, которые придется решать в ходе проектирования, выявить достоинства и недостатки такой схемы старта, и, главное, выявить проблемные вопросы, которые могут оказаться неразрешимыми. Он потребовал, чтобы наша группа не реже трех раз в неделю докладывала ему о результатах. Впоследствии, когда к работе по созданию шахтного старта подключились все подразделения ОКБ, Михаил Кузьмич продолжал лично контролировать весь ход работ и вплоть до 1962 года время от времени приглашал меня для подробного доклада. Особенно его волновали два вопроса: нагрузки на бугельные опоры нашей первой МБР Р-16 (8К64У) при выходе из шахты по направляющим и акустическое воздействие на ракету при запуске маршевых двигателей в шахте. Он мне говорил: «Вы должны довести до ума Рудяка (Главного конструктора шахтного комплекса для Р-16), что не ракета делается под его шахту, а шахта делается для защиты ракеты. Амортизация ракеты в шахте должна быть такой, чтобы нам не пришлось упрочнять ракету». Вопрос этот приобретал особую остроту в связи с тем, что из-за жесткой позиции В. П. Глушко, категорически отказывавшегося контролировать запуск двигателей, нам никак не удавалось исключить возможность старта ракеты на двух (из трех) двигателях. Естественно в этом аномальном случае резко возрастали реакции в бугелях ракеты при ее выходе из шахты. Е. Г. Рудяк пытался воспользоваться этой ситуацией и заставить М. К. Янгеля обеспечить прочность ракеты под этот случай аварийного старта. Второй вопрос, волновавший Главного конструктора, в основном инициировался высшим московским руководством, которому разведывательные органы докладывали, что американцы, тоже приступившие к разработке шахтного старта, очень обеспокоены акустической проблемой. Американские специалисты полагали, что ракета и особенно командные приборы СУ не выдержат акустических нагрузок, и решили перед пуском поднимать ракету из шахты лифтом и только после этого запускать двигатели. Михаил Кузьмич категорически настаивал на том, что ракета из шахты должна вылетать на собственных двигателях. Для подтверждения возможности и безопасности такой схемы в марте 1962 года он отправил меня с В. И. Сидовым и Ю. И. Мошненко в ЦАГИ и в Акустический институт АН СССР с просьбой срочно проработать и дать заключение о возможности первых пусков ракеты Р-16 из шахты. К сожалению, ученые ЦАГИ и АКИН потребовали большие деньги и, главное, совершенно неприемлемые сроки на предварительные исследования – полтора-два года. Когда я обо всем этом доложил Михаилу Кузьмичу, он спросил, что по этому поводу думают В. И. Моссаковский и Ф. И. Кондратенко. Я ответил, что мы все думаем так: акустика ничем особо страшным не грозит. Ведь мы уже провели к тому времени первые пуски из шахты ракет Р-12У (8К63У) и Р-14У (8К65У), а Н. Ф. Герасюта вообще считает, что американцы специально дают утечку информации, чтобы нас запугать, так как они явно отстают от нас с отработкой шахтного старта. Очевидно, нелегко было Михаилу Кузьмичу принять правильное решение, но он его принял. Первые пуски МБР 8К64У из шахтного стартового комплекса «Шексна», как и планировалось, начались в июле 1962 года. Они прошли успешно, и Р-16 шахтного базирования была принята на вооружение РВСН. Следует заметить, что американцы пришли к реализации подобной схемы начального движения своих ракет в шахте только много лет спустя. Следующее важное поручение М. К. Янгеля мне пришлось выполнять в ходе разработки первой в мире боевой орбитальной ракеты 8К69, баллистическое проектирование которой в 1963-1964 годах вел сектор под моим руководством. Ракета 8К69 в соответствии с тактико-техническими требованиями (ТТТ) Министерства обороны должна была иметь неограниченную дальность стрельбы, то есть 40000 км, при пусках в любом направлении, включая западное (азимут –90°). Такие характеристики ракеты позволяли наносить удар по вероятному противнику как в прямом направлении, так и в обратном – с облетом вокруг Земли, то есть с тыла, как выражался Н. С. Хрущев, уже объявивший на весь мир о создании у нас такой «глобальной» ракеты. Поскольку ракета проектировалась на базе уже проходившей летные испытания ракеты 8К67 баллистического варианта, то создалось напряженное положение с выполнением ТТТ в части энергетических характеристик. Мы не могли обеспечить выведение головной части на орбиту, близкую к круговой, при пусках в западном направлении. В то же время при пусках в восточном направлении у нас оставалось большое количество неизрасходованного топлива. На одном из совещаний у Михаила Кузьмича по этому вопросу я решил высказать сомнение, что военные достаточно обоснованно требуют от нас такие характеристики ракеты. Янгель тут же предложил мне исследовать этот вопрос и, если я окажусь прав, выпустить соответствующий отчет. Такая работа была мною проведена с помощью большого авиационного глобуса, стоявшего в кабинете В. С. Будника и впоследствии подаренного нашему сектору. Было показано, что при стрельбе с любой точки на территории СССР нет ни одной потенциальной цели на земном шаре с дальностью в западном направлении более 17000 км. Поэтому было предложено оснастить систему управления комплектом из 11 программ тангажа, которые обеспечивали бы выведение орбитальной головной части на околоземные круговые орбиты в диапазоне азимутов восточного и полярного направления от –21° до +201°, а в западных направлениях – выведение на слабоэллиптические незамкнутые орбиты с дальностью полета от 40000 км до 17000 км при азимуте Ао= 90°. Все это я доложил Михаилу Кузьмичу, и он был очень доволен. Выкурив молча сигарету, он, обращаясь ко мне и Н. Ф. Герасюте, сказал: «Молодцы! А теперь отчет в зубы и первым же самолетом дуй на полигон». Последнее относилось ко мне, и он пояснил, что там сейчас находится Главком РВСН Маршал Советского Союза Сергей Семенович Бирюзов. «Как прилетишь, сразу же прорывайся к нему. Любым способом добейся встречи с ним и все ему доложи. Говори, что ты прибыл с моим личным поручением, а дня через два-три я тоже прилечу». Мне очень повезло: я неожиданного встретил маршала сразу по прибытии в гостиницу «Люкс» на 43-й площадке. Прямо в столовой я сделал краткое сообщение о цели визита и поручении Михаила Кузьмича. В 17.00 в кабинете Янгеля состоялся мой подробный доклад, на котором вместе с маршалом присутствовали начальник ГУРВО генерал Н. Н. Смирницкий, два или три генерала из свиты Главкома, а также заместитель Главного конструктора В. В. Грачев и ведущий конструктор М. И. Галась. Главком С. С. Бирюзов согласился с выводами отчета и одобрил наше предложение. Там же было подписано письмо, содержавшее всего несколько очень важных для ОКБ строк: ТТТ МО корректировались в точном соответствии с нашим предложением. Прибывший через несколько дней М. К. Янгель поздравил нас с успехом, поблагодарил за оперативность и в качестве поощрения разрешил вечером пользоваться его машиной для поездок в Ленинск, чем мы с В. А. Антоновым тут же воспользовались. Вспоминается и такая чрезвычайная ситуация, когда Михаил Кузьмич в очередной раз доверил мне очень ответственное задание. Мы готовились к началу летных испытаний той же орбитальной ракеты 8К69. Первые пуски планировалось провести по слабоэллиптическим траекториям с поражением цели на камчатском полигоне «Кура»: то есть орбитальная ГЧ, пролетая над полигоном, должна была с помощью тормозной ДУ сойти с орбиты и поразить цель в районе поселка Ключи. При этом вторая ступень продолжала полет с постепенным снижением. Ее район падения из-за малого угла входа в атмосферу и неопределенного разрушения корпуса на отдельные фрагменты был очень растянутым вдоль трассы полета (более 200 км) и, главное, он располагался в непосредственной близости от Западного побережья США. Этот район мне еще заблаговременно удалось согласовать с помощью баллистического управления ГУРВО в лице Н. Н. Смирницкого, В. М. Рюмкина и В. М. Гринева с Генеральными штабами РВ и ВМФ. Утвердил наше решение исполнявший тогда обязанности министра иностранных дел Василий Васильевич Кузнецов. И вот за пару недель до первого пуска грянул гром. А. А. Громыко, узнав, что готовится сообщение ТАСС о закрытии нашего района падения, категорически этому воспротивился. Как нам передал его слова Михаил Кузьмич, Андрей Андреевич сказал, что мы все «посходили с ума», что Сиэтл, Сан-Франциско и Лос-Анджелес – это центры аэрокосмической промышленности США. Американцы могут с перепуга дать ответный удар. Янгель вызвал нас с А. А. Красовским: «Возьмите необходимые документы и иллюстрации, отправляйтесь немедленно в Кремль к Л. В. Смирнову и объясните ему, что другого выхода нет. Иначе мы не сможем начать летные испытания. Объясните так, чтобы он смог убедить А. А. Громыко. Я на вас надеюсь». Мне удалось выполнить это задание, несмотря на возникшие в последний момент трудности: А. А. Красовский чем-то не понравился кремлевской охране и в здание ВПК его не пустили, предложили подождать меня в бюро пропусков. Помог мне убедить руководство в правильности нашего решения инженер ВПК П. Ф. Донской, курировавший наше предприятие. Необычные взаимоотношения с Михаилом Кузьмичом сложились у меня в 1967 году во время завершающих пусков ракет 8К69 по программе летных испытаний. После серии успешных стартов вдруг началось непонятное: после входа в плотные слои атмосферы боевые блоки начали терять устойчивость и разрушаться. Нам тут же припомнили, что в конце 1965 года при пусках ракеты 8К67 на сверхдальнюю акваторию в южную часть Тихого океана наблюдалось такое же явление. Тогда посчитали, что это происки американцев, так как наша трасса полета проходила через район, объявленный американцами накануне наших пусков как район маневров их ВМС с отработкой средств ПРО (атолл Мидуэй). Теперь предстояло разобраться с этим явлением. Для этого на полигоне было созвано техническое совещание, на которое был приглашен весь цвет советской науки соответствующих направлений. Меня Михаил Кузьмич назначил научно-техническим секретарем этого совещания и дал мне трудное и не совсем понятное задание: «Принимай всех прибывающих академиков и профессоров, объясняй им суть проблемы, знакомь с результатами телеизмерений, в общем, развлекай их, как сможешь, но ко мне их дня тричетыре не пускай. Слушай и запоминай выдвигаемые ими версии, а вечером в гостинице будешь мне подробно докладывать». Такую свою позицию он объяснил тем, что надо дать время нашим специалистам самим выработать какие-то более или менее рабочие версии, чтобы было что обсуждать. Мое положение усугублялось еще и тем, что Н. Ф. Герасюта и П. И. Никитин, узнав о таком странном поручении Янгеля, тут же попросили и их на эти дни по возможности оградить от встреч с прибывающими учеными. Помню, Михаила Кузьмича заинтересовал дошедший до него слух об «антидемпфировании», высказанном кем-то из прибывших специалистов. Он попросил меня об этом и вообще обо всех интересных мыслях сразу же сообщать в Днепропетровск: «Пусть там наши ребята не перестают думать над этой проблемой». Впоследствии она была решена специалистами КБ «Южное» А. Д. Шептуном, Ю. Л. Скорбященским, П. Н. Лебедевым, А. А. Красовским и другими. В 1968–1970 годах начались работы по созданию разделяющейся головной части применительно к только что принятой на вооружение ракете нового поколения Р-36 (8К67). Группой сотрудников комплекса Н. Ф. Герасюты в составе В. В. Лазаряна, В. А. Гонтаровского, автора этих строк и других была предложена и впоследствии с одобрения М. К. Янгеля реализована на ракете 8К67П оригинальная схема РГЧ с инерционным отделением боевых блоков во время работы маршевых двигателей ракеты. Нами была оформлена пионерская заявка на изобретение первой РГЧ. Я предложил Михаилу Кузьмичу расписаться в качестве соавтора в заявке на изобретение, но он, поддержав нашу инициативу по оформлению заявки, категорически отказался участвовать в ней на правах соавтора. «Ты понимаешь, − сказал он, − тогда мне придется, как Главному конструктору, подписывать все ваши заявки, а это неправильно. Авторы – это те, кто лично, непосредственно участвовал в выработке этого предложения». Я и сейчас не могу полностью согласиться с его такой точкой зрения. Считаю, что во многих творческих работах коллектива КБ была определяющая роль лично Михаила Кузьмича не только как Главного конструктора, но и просто как инициативного инженера, конструктора и ученого. Например, создание БРДД на высококипящих компонентах топлива, реализация старта ракет из шахтных ПУ на собственных двигателях и многомного других принципиально новых проектных решений, определявших на многие годы вперед направление развития ракетной техники. Интересен такой случай, характеризующий Михаила Кузьмича как спокойного человека, не теряющего самообладание в любой ситуации. Как-то в 60-х годах был кратковременно период, когда наш аэропорт оснастился крупногабаритными лайнерами Ан-10 «Украина» и договорился с нашим руководством отменить спецрейсы в Москву, чтобы обеспечить полную загрузку рейсовых Ан-10. Маршрут этих рейсов был весьма странным: они совершали по дороге в Москву промежуточную посадку в Киеве. Во время одного из таких полетов у самолета, в котором летело много наших командированных и М. К. Янгель, загорелся один из двигателей. Попытки экипажа потушить пожар на работающем двигателе не увенчались успехом, и самолет совершил аварийную посадку в Борисполе на трех двигателях. По радио аэропорта объявили, что через 3-4 часа самолет будет отремонтирован и продолжит полет в Москву. Пассажиров, не желающих продолжать полет на этом самолете, попросили сдать билеты с соответствующей компенсацией. Михаил Кузьмич спросил у нас, кто останется, и пригласил согласившихся в ресторан. Он угостил всех коньяком и провозгласил тост за тех, кто проявил, как он выразился, стойкость характера и не поддался общей панике. Ведь большинство пассажиров нашего рейса с радостью бросились сдавать билеты. Оставшиеся во главе с Михаилом Кузьмичом вечером того же дня благополучно прибыли во Внуково тем же рейсом. Запомнился такой забавный случай. Прибыли мы как-то в командировку в Ленинград. Мы – это М. К. Янгель, В. Н. Лобанов, Г. А. Кожевников, А. А. Красовский, Е. И. Дубинин и я. По предложению Кузьмича решили поселиться в гостинице «Астория» и, в первую очередь, пойти в ресторан пообедать. Подходим к стеклянным дверям ресторана, видим: внутри никого нет, а на дверях табличка «Only for aliens» («Только для иностранцев»). Мы растерялись, но Михаил Кузьмич предложил входить, не обращая внимания на эту табличку. Чувствовалось, что его возмущению нет предела, он несколько раз произнес, что такие таблички уже и в Америке не вешают. Но тут к нам подбежал весьма «солидной» внешности швейцар в сверкающей позолотой ливрее и оттеснил нас от дверей ресторана. Михаил Кузьмич предложил нам выйти на свежий воздух покурить и полюбоваться Исаакиевским собором, а сам, проходя мимо дежурного администратора, воспользовался телефоном. По-моему, мы не успели выкурить сигарету, как к подъезду гостиницы, оглушив всех спецсигналом, подкатил ЗИС-110, из которого вышел Председатель Ленсовета, здание которого расположено рядом, напротив Исаакиевского собора. Прибывший передал искренние извинения от имени Г. В. Романова, который в то время был первым секретарем ленинградского горкома партии. Администрация гостиницы и чуть ли не весь штат ресторана выстроились перед нами, раскланиваясь и приглашая пройти в зал… Ну и совсем забавный случай произошел в начале 60-х годов. Я с дочерью – первоклассницей возвращался из Москвы нашим арендным самолетом. Прибыв во Внуково, узнаем, что Днепр, то есть наш аэропорт, закрыт по погодным условиям, и наш самолет не выпускают из Днепропетровска. Все наши командированные покинули аэропорт и уехали в Москву. Осталось всего трое: Б. Е. Хмыров и я с дочерью, так как у нас с Борисом Евгеньевичем в кармане не было ни копейки. Полагая, что через три часа будем дома, мы в последний момент истратили всю оставшуюся наличность на покупку апельсинов. Уныло бродим по аэровокзалу. Подошли с дочерью к ларьку с разными сувенирами, и дочь видит большую, очень красивую и очень дорогую коробку конфет «Чешское ассорти». Моя Алена потеряла дар речи и стояла перед этой коробкой с открытым ртом. Вдруг за спиной раздается знакомый баритон: «Что, отец жлобится?». Оглядываюсь и вижу улыбающегося Михаила Кузьмича, достающего из кошелька деньги. Через минуту эта чудо-коробка перекочевала в руки обалдевшей от счастья Алены. «Это тебе от дяди Миши, − сказал Янгель и тут же поинтересовался, − а где же наши люди?». Мы ему объяснили ситуацию. Он сходил к дежурному начлету, связался с руководством Днепропетровского аэропорта и уговорил выпустить арендный самолет, которым в тот день управлял наш летчик 1-го класса Оганесян. Михаил Кузьмич вернулся к нам со словами: «Через три часа самолет будет здесь. Оганесян не подведет. А пока Ил-14 будет добираться до Москвы, мы посидим в ресторане, я угощаю». Угощение по-янгелевски традиционное: коньяк, минералка «Боржоми» и жареный картофель «фри». Я уже знал из предыдущих встреч, что это его любимое блюдо. С тех пор, когда я тоже обычно готовлю «фри», то всегда сразу вспоминаю Михаила Кузьмича, этого замечательного Человека с большой буквы. Август 2006 г. * * *
Виктор Михайлович ЕЛИСЕЕВ, ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ Бытует мнение: М. К. Янгель – Главный конструктор ракет. Так казалось на этапе создания первенца ОКБ – ракеты Р-12. Однако при дальнейших разработках стало ясно, что проектировать ракету нужно совместно со стартовым комплексом, создавая в совокупности боевые ракетные комплексы. Конкретный, на первый взгляд, незначительный пример. Весной 1957 года в Загорске успешно завершились стендовые огневые испытания ракеты Р-12. Тогда Михаил Кузьмич провозгласил: «Долой жидкий кислород, да здравствует азотная кислота!» (я лично при этом присутствовал). Да, действительно, нами разрабатывалась впервые в стране боевая стратегическая ракета на высококипящих компонентах топлива. Но при первых же пусках на полигоне Капустин Яр выяснилось, что шланги, соединяющие заправочное оборудование окислителя (азотной кислоты) с ракетой и изготовленные из кислотостойкой резины, оказались недостаточно стойкими к воздействию окислителя. Поэтому после каждой заправки ракеты их промывали водой, резиновую часть отрезали, а концевую арматуру, изготовленную из нержавеющей стали, отправляли в Москву для повторного монтажа на новом резиновом рукаве, последующих испытаний и возврата на полигон. Учитывая, что в то время в Советском Союзе другие кислотостойкие гибкие трубопроводы не производились, при активном вмешательстве М. К. Янгеля через правительственные органы было выпущено решение Государственной комиссии по военно-промышленным вопросам об организации производства на заводе в Уфе металлорукавов из нержавеющей стали с разработкой нормали, а в последующем – ГОСТа. С тех пор и по настоящее время в ракетных комплексах применяются именно такие рукава для всех компонентов топлива, сжатых газов, в том числе и в конструкциях ракет. Этот пример красноречиво свидетельствует о том, что, проектируя ракету, необходимо одновременно в тесной связи со смежниками вести кропотливую работу по созданию стартового оборудования и ракетного комплекса в целом. Михаил Кузьмич это прекрасно понимал, и при последующих разработках новых ракет одновременно проектировались новые ракетные комплексы. Головными организациями-разработчиками стартовых комплексов были КБОМ, СКВ НКМЗ, КБСМ, КБТМ. В тесном сотрудничестве с Главными конструкторами В. П. Барминым, В. И. Капустинским, Е. Г. Рудяком, В. С. Степановым, В. П. Петровым, В. Н. Соловьевым рождались новые ракетные комплексы Главного конструктора М. К. Янгеля, отвечающие духу времени, требованиям Ракетных войск и по своим характеристикам не имеющие аналогов в мире. Но для достижения таких высот в создании ракетной техники требовалась большая работа не только Главного конструктора – генератора идей, нужны были творческие силы, обеспечивающие реализацию этих идей в конструкции и облике ракетных комплексов. В связи с этим уже в 1959 году по инициативе М. К. Янгеля в ОКБ-586 создается отдел наземного оборудования и стартовых комплексов. До этого в отделе испытаний наземным оборудованием занималась группа из 7-8 специалистов, которые, в основном, вели увязку наземных агрегатов с элементами конструкции ракеты, разрабатывали документацию на эксплуатацию ракеты с использованием наземного оборудования и участвовали в летно-конструкторских испытаниях. В новом отделе были образованы специализированные подразделения: по стартовым комплексам, заправочному оборудованию, по транспортировке ракет и работам с головными частями. Начальником отдела был назначен Н. А. Зайцев, а позднее – И. И. Щукин, руководителями подразделений – И. И. Коваль, Б. Н. Александров, А. М. Бондаренко, В. Н. Кузнецов, Е. А. Шрамко и автор этих строк. В отделе выполнялись работы, обеспечивающие создание стартовых комплексов для разрабатываемых в нашем КБ ракет, в том числе согласование ТТЗ, ТЗ на комплекс в целом и отдельные агрегаты и системы, эскизные и рабочие проекты, программы отработки. Эти работы позволяли строго контролировать и обеспечивать выполнение смежными организациями заданных требований к техническим и эксплуатационным характеристикам создаваемого оборудования, определять и внедрять в конструкции передовые, а порой уникальные технические решения, проводить конструктивную увязку с узлами ракет и обеспечивать выполнение технологических процессов при их совместной эксплуатации. Выполнение всех требований подтверждалось проведенными совместно с заинтересованными организациями испытаниями: заводскими, автономными, комплексными с макетом ракеты и летно-конструкторскими, − по результатам которых ракетные комплексы принимались на вооружение. По мере возрастания требований к находящимся на вооружении стратегическим ракетам и ракетным комплексам по тактико-техническим и эксплуатационным характеристикам и в связи с этим повышения роли и качества проектных работ по комплексам М. К. Янгель в 60-х годах принимает решение об образовании специализированного проектного отдела по боевым и космическим ракетным комплексам. В новом отделе определялся облик будущего комплекса, разрабатывались исходные данные и технические требования для предприятий-смежников на создание стартовых комплексов, проводилась экспериментальная отработка отдельных уникальных узлов. Первыми руководителями этого отдела были В. Х. Репетило, С. Н. Конюхов, В. А. Автономов, ведущими специалистами – Л. И. Талан, А. С. Куценко, С. Я. Козин, Е. Н. Канунников, С. А. Уваров и другие. Опираясь на результаты проектных работ, Главный конструктор настойчиво, порою преодолевая яростное сопротивление Главных конструкторов смежных предприятий, добивался претворения в жизнь уникальных решений, обеспечивающих качественные показатели ракетных комплексов. Для ускорения разработок, и особенно изготовления и поставок на испытания составных частей ракетных комплексов, Михаил Кузьмич часто обращался в Совет Министров (ВПК), ЦК КПСС, давал поручения подготовить обращения в обкомы партии, руководителям министерств и ведомств. Как правило, такие обращения давали положительные результаты. При разработках ракетных комплексов М. К. Янгель внимательно, по государственному относился к стоимостным характеристикам создаваемых комплексов. Так, например, в 60-х годах разрабатывался подвижной ракетный комплекс на гусеничном ходу с ракетой 8К99, первая ступень которой была твердотопливной, а вторая – жидкостной, с ампулизированными топливными системами. Для упрощения эксплуатации этой ракеты было принято решение об исключении из ракетного комплекса заправочного оборудования для второй ступени, заправку считать заводской операцией, чтобы войска и не чувствовали, что ракета заправлена жидкими агрессивными компонентами топлива. В связи с этим возник вопрос о создании на заводе заправочной станции, но это – дорогостоящее мероприятие, да к тому же потребуется много времени для ввода ее в эксплуатацию. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы Михаил Кузьмич считал необходимым ознакомиться с проведением заправки ракет морского базирования в КБ и на заводе под руководством В. П. Макеева в Миассе и Златоусте. Подробно объяснив мне и специалисту по пневмогидравлическим системам В. Н. Ошанину суть проблемы, ее важность, особенно просил обратить внимание на обеспечение безопасности проводимых работ и гарантированной герметичности топливных систем после заправки ракеты, а главное – на возможность заправки там наших ракет. Задание Михаила Кузьмича было выполнено, мы привезли необходимые материалы и даже технологический образец дистанционно завариваемой заглушки, которой герметизируется топливная система ракеты после заправки. К сожалению, в 1969 году в ходе успешно проводимых ЛКИ разработка этого комплекса была прекращена, но идея заводской заправки жидкостных ракет как заводской операции была реализована в РГЧ ракет 15Ж60 и 15Ж61, позднее принятых на вооружение. Особое внимание Михаил Кузьмич уделял летно-конструкторским испытаниям и серийной эксплуатации ракетных комплексов. При ЛКИ в составе всех Государственных комиссий М. К. Янгель являлся заместителем председателя – техническим руководителем по проведению испытаний, поэтому много времени проводил на полигонах, особенно на Байконуре. Он был примером поведения в любой сложной ситуации, умело руководил аварийными комиссиями, предлагал с разумным обоснованием пути исследования, полезные эксперименты. Он всегда был очень внимателен к мнениям, предложениям и рекомендациям участников испытаний; решения принимал после выяснения позиций всех участников обсуждения того или иного вопроса. Особым доверием у Михаила Кузьмича при ЛКИ пользовался его заместитель по испытаниям В. В. Грачев, который в течение многих лет осуществлял техническое руководство при проведении летных испытаний, в основном на полигоне Байконур. Периодически его подменяли М. И. Галась, В. Ф. Рыков, С. А. Матюшенков. В начале 60-х годов, когда в СССР началось массовое строительство боевых ракетных комплексов межконтинентальных ракет, для обеспечения постановки их на боевое дежурство М. К. Янгель принял решение о выделении в составе испытательного комплекса специализированного отдела. Несколько позже по решению министерства в структуре КБ «Южное» был образован комплекс авторского и гарантийного надзора за эксплуатацией серийных ракетных комплексов в войсках. Начальником комплекса был назначен А. М. Куншенко, начальниками отделов – И. Я. Красницкий и Г. А. Лысов. Специалисты этого комплекса в сложнейших бытовых и климатических условиях обеспечивали постановку ракет на боевое дежурство, а в дальнейшем участвовали в проведении регламентных работ по поддержанию ракетных комплексов в боевой готовности. Периодически по решению командования Ракетных войск с боевых объектов проводились пуски ракет, в которых также принимали участие наши эксплуатационщики. М. К. Янгель работы на серийных объектах держал под особым контролем, остро реагировал на возникающие проблемы на объектах, принимал меры к выработке в КБ необходимых рекомендаций по устранению замечаний, лично выезжал на объекты, в том числе в составе делегаций Главных конструкторовразработчиков элементов комплексов. Таким образом, в конце 60-х годов сформировалась и действует до настоящего времени структура нашего конструкторского бюро, способная успешно вести проектные и конструкторские работы по созданию ракетных комплексов стратегического и космического назначения, их испытания и серийную эксплуатацию. Неоценимый вклад в это внес лично М. К. Янгель. А если говорить в целом об успехах и достижениях нашего КБ, то, безусловно, велик вклад также ближайших соратников Михаила Кузьмича: В. С. Будника, В. Ф. Уткина, В. М. Ковтуненко, Н. Ф. Герасюты, И. И. Иванова, В. В. Грачева, П. И. Никитина, М. А. Ахметшина, Б. И. Губанова, М. И. Галася, Ю. А. Сметанина, С. Н. Конюхова и др. Этот своего рода генеральный штаб во главе с Михаилом Кузьмичом Янгелем создал систему и свои традиции в разработке ракетно-космических комплексов. Апрель 2001 г. * * *
Станислав Яковлевич КОЗИН, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР Научно-технические достижения ХХ века огромны. С позиций предыдущего ХIХ столетия, когда началась научно-техническая революция, − просто потрясающие. Даже самые смелые писатели-фантасты тех времен, предсказавшие подводные корабли и авиацию, не рискнули предположить возможность пилотируемых полетов в космосе, высвобождения энергии атома, глобальной системы связи. Как удалось достичь таких успехов? Какими силами и средствами? Давайте начнем издалека. Фолианты былых времен рисуют нам фигуру средневекового алхимика, одиноко занимающегося поиском философского камня в угрюмой келье среди реторт, змеевиков, сушеных крокодилов. Пожалуй, так было и сподручнее – меньше знала святая инквизиция. Однако образ ученого-одиночки прочно вошел в историю. Исаак Ньютон, Михайло Ломоносов, Кулибин, Фарадей может и имели учеников и помощников, но нам представляются как личностииндивидуалисты. Такое положение вещей подтверждается и литературой, отражающей в значительной мере суть текущей жизни. Все изобретатели Жюля Верна и Герберта Уэллса – одиночки. Даже работавший уже в ХХ веке Алексей Толстой доверил создание гиперболоида и аппарата для полета к Марсу персонально инженерам Гарину и Лосю. В основе сего расхожего мнения лежит понимание творческого умственного процесса как исключительно индивидуального, а способность генерировать принципиально новые идеи – как удел гениев, встречающихся крайне редко в общей людской массе. Согласитесь, что при таком раскладе сил мы не уложились бы в рамки ста лет с созданием того, чем гордится двадцатый век. Но уложились. И стало это возможным благодаря одному из самых великих творений человечества – конструкторскому бюро, суммирующему интеллекты в достижение цели, видимой немногими. Это организационная структура, развивающая идеи гениальных и особо талантливых личностей до реального воплощения в жизнь, суммируя их при создании сложных систем с творениями других конструкторских бюро. Первое образование такого рода, наверное, имело место при создании паровоза. Но в явном виде оно проявилось при воплощении гениальных идей Эдисона. Мастерская по изготовлению изобретений со временем выросла в крупнейшую фирму США «Дженерал электрик». Наиболее зримо такой процесс наблюдался в деятельности Генри Форда. Он вообще является признанным апологетом принципа разделения труда в целях образования фронта работ. К середине ХХ века конструкторские бюро были созданы по многим направлениям развития техники, но особую известность получили КБ по разработке самолетов – любимого дитя тех времен. Первую «настоящую» баллистическую ракету, как известно, создал коллектив, возглавляемый Вернером фон Брауном. Нам неизвестно ее построение, но основные решения, обеспечившие возможность полета «Фау-2»: жидкостный ракетный двигатель и гироскопический интегратор кажущейся скорости – являются гениальными изобретениями. Нам неизвестны ни имена коллег Вернера фон Брауна, ни их взаимоотношения в коллективе. Можно только предполагать, что это были уникальные личности с немецкими усидчивостью и исполнительской дисциплиной. Зато мы можем рассказать о возникновении и функционировании ракетно-космического конструкторского бюро, которое в настоящее время носит имя его создателя Михаила Кузьмича Янгеля. Есть принципиальная разница в мотивах создания конструкторских бюро по разработке ракетной техники, возглавлявшихся Королевым и Янгелем. ОКБ-1 (обратите внимание на номер) было создано волей правительства СССР, а Сергей Павлович Главным конструктором был назначен. Кстати, мог быть назначен и кто-то другой. Валентин Петрович Глушко, например, до конца дней своих считал, что это должен был быть он. На этой почве навсегда рассорились два Главных конструктора (ОКБ-1 и ОКБ-456), в результате чего была не выполнена программа высадки советского человека на Луну. Конструкторское бюро № 586 (ОКБ-586) было образовано под глубокие убеждения Михаила Кузьмича о возможности развития ракетной техники по пути, отличному от принятого Вернером фон Брауном и исповедовавшегося Королевым. Скажем предельно четко: КБ было образовано для работы Янгеля. Образовано – не значит создано. Имелось постановление правительства, был обозначен пункт местонахождения – город Днепропетровск, было серийное конструкторское бюро при заводе № 586, обеспечивавшее программу выпуска «единичек» и «двоек» ОКБ-1. Необходим был коллектив, способный реализовать задумки Главного конструктора. В решении этого вопроса проявились особые качества Михаила Кузьмича как человека. Первый «большой призыв» в новое КБ состоялся в 1955 году. Наряду с молодыми специалистами поступали «академики» – инженеры со стажем, обучавшиеся в промышленной академии. Весь этот поток людей прошел личное собеседование с Главным конструктором. В крайнем случае, при его отсутствии, − с первым заместителем Василием Сергеевичем Будником. Даже по короткому знакомству Михаил Кузьмич мог составить впечатление о человеке. По крайней мере, выделял самостоятельно мыслящих, волевых. Многие из замеченных и проявивших себя практически очень быстро поднялись на высокие должности, даже не выйдя из «статуса» молодого специалиста. Очень важно, какое в коллективе работающих вместе людей царит устремление. Это именно то слово – устремление, цель, которую видит и к которой стремится большинство работников. Будучи сам генератором идей, Янгель создал атмосферу творчества. Все хотели изобретать, создавать что-то новое, удивлять окружающих неожиданностью решений. Даже серийное конструкторское бюро завода взялось совершенствовать «двойку» Королева; ее дальность была увеличена аж на двести километров. Правда, это оказалось ненужным. Но факт был. Было еще одно исключительное качество у Михаила Кузьмича: способность воспринимать и оценивать по достоинству идеи других без каких-либо посягательств на соавторство. Все это позволило создать вертикаль технического управления производственным процессом конструкторского бюро, по оси ординат которой откладывался показатель «может» (а не «хочет» или «очень хочет»). И еще одно. Воля в решении поставленной задачи. Приведем исторический пример. Находясь в Голландии, Петр Первый пил минеральную воду, которая ему очень понравилась. Когда началось строительство Санкт-Петербурга, Петр выдал задание своим землепроходцам найти минеральную воду в окрестностях города. Вот так! Ни больше, ни меньше. Зная, что царский гнев за неисполнение его заданий страшен, геологи (назовем их так) усиленно искали и нашли-таки минеральную воду. Полюстровскую. Нечто подобное произошло в КБ «Южное» в 1969–1971 гг. Здесь восстановим историческую правду. Когда КБЮ взялось за разработку мощной ракеты с «кассетной» боевой частью, ни в самом КБЮ, ни у смежника по «наземке» – КБСМ – не родилось идеи приличной шахтной пусковой установки. Главный конструктор КБ-1 КБСМ Евгений Георгиевич Рудяк предложил для Р-36М шахту, сравнимую разве что с правительственным бункером. Все обреченно воспринимали ее как неизбежность. Идея упрочнения шахт ракет 8К67 путем бетонирования их «внутрь» пришла от сотрудника ЦНИИмаша Василия Митрофановича Макушина. Во время Совета Главных он пытался обратить в свою сторону проектантов различных уровней, но тщетно. Дело в том, что реализация его идеи требовала применения минометного старта ракеты, а эта задача перед этим не была решена применительно к твердотопливной ракете, куда уж тут жидкостной. Макушин буквально прорвался к Михаилу Кузьмичу, и тот мгновенно оценил значение такого решения в государственном масштабе. Не будем вдаваться в подробности, но скажем по факту: самая мощная в мире боевая ракетная система появилась благодаря непреклонной воле Янгеля. И добавим: чтобы проявлять такую волю, необходимо иметь твердую уверенность в правильности принятого решения. Уверенность не фанатичную, а построенную на исключительной инженерной интуиции, дарованной немногим в этом мире. Подведем итог. Конструкторское бюро «Южное» возникло благодаря выдающимся техническим способностям и человеческим качествам Михаила Кузьмича Янгеля. Твердой рукой вел он созданный коллектив по пути решения сложнейших задач, требующих высочайшего интеллекта, инженерных способностей, удачи как награды за смелость. И ушел Михаил Кузьмич от нас тридцать лет назад, завещая свою Мудрость и свою Волю. Май 2001 г. * * *
Виктор Алексеевич АНТОНОВ, «МИНОМЕТНОМУ СТАРТУ – БЫТЬ!» Группа студентов КАИ в составе шести человек дипломировалась в ОКБ-586 в 1954-1955 гг. (с защитой диплома в феврале 1955 г.). При приеме на работу всю нашу группу принял В. С. Будник. Мне он предложил работу в проектном отделе В. М. Ковтуненко. Я согласился. Так я оказался в отделе 3, в группе Э. М. Кашанова, в секторе М. И. Кормильцева. Михаил Иванович Кормильцев был удивительным генератором идей. Под его «напором» я разработал несколько вариантов ПГС изделия 8К63 с различными вариантами системы наддува баков (газобаллонная, генераторная, испарительная, смесевая, с аэродинамическим наддувом). С Михаилом Кузьмичом Янгелем я впервые встретился через год работы в ОКБ на личном приеме. Я приехал из отпуска с братом, окончившим 10 классов, с желанием устроить его на завод или в КБ с последующим поступлением его в институт. Все мои попытки самостоятельно решить эту проблему и даже с помощью В. С. Будника, к которому я неоднократно обращался, не имели успеха. Секретарь Лидия Павловна Мышковская, заметив мои неудачи, порекомендовала обратиться к М. К. Янгелю: «Он решит Вашу проблему». Во время личного приема М. К. Янгель был один, когда я вошел к нему в кабинет. Встретил он меня очень приветливо. Расспрашивал обо всем: откуда родом (оба мы с ним из сельской местности), что окончил, семейное положение, быт, увлечения. Я тогда занимался тяжелой атлетикой. «А я, знаешь, в институте увлекался коньками и бегал вроде неплохо... Дай мне, − говорит – сроку неделю, и я постараюсь устроить твоего брата, хотя мне нужней инженеры». Прошла неделя. Я, как говорится, на иголках, брат не работает уже два месяца, живет со мной в общежитии – гостинице «Южной». И ровно через неделю, в середине дня, звонит Лидия Павловна и просит зайти к М. К. Янгелю. Вхожу, а там «дым коромыслом», идет какое-то совещание. Стал у двери и думаю, зачем позвали. Он увидел меня, кивком головы указал на стул у противоположной стены. Сам он стал названивать в отдел кадров и быстро о чем-то договорился. «Пусть Ваш брат идет в отдел кадров, его устроят, мне они не откажут». На следующий день брат приступил к работе в должности лаборанта в фотолаборатории испытательного комплекса (на «сотке»). Позднее, в 1961 г., мы группой «старых холостяков» (шесть человек) обратились с заявлением к М. К. Янгелю по вопросу получения жилья. На заявление он написал выделить каждому по комнате. А когда подписывал, смеялся над «старыми холостяками». В период 1966-1967 гг., когда я был и. о. начальника отдела ПГС, общался с М. К. Янгелем довольно часто. Придешь к нему – «Ну с чем пришел, рассказывай». Показываю ему письма, телеграммы, схемы. По каждому документу: «Расскажи, что ты там предлагаешь». Рассказываю по каждому документу. «Согласен, давай подпишу» или «Не согласен, давай поправлю, как надо написать», и без всякой критики. Смотрит схему ПГС: «Ты думаешь, что я в них разбираюсь, рассказывай, чтобы я понял что-нибудь». Рассказываю о системах наддува, заправки, о двигателях и тягах, особенностях полета. «Я понял все, я тебе доверяю, давай будем подписывать». Отдел ПГС был проектным отделом, и мы с другими отделами часто участвовали в совещаниях у М. К. Янгеля. Проектантов он любил, и когда приезжал после каких-либо совещаний в министерстве или у руководителей более высокого ранга, всегда приглашал проектантов и делился с ними информацией, своими соображениями или опасениями. У меня с М. К. Янгелем не возникало никаких конфликтов, он соглашался со всеми моими предложениями по спорным вопросам, по исправлению выявленных замечаний, имеющих отношение к тематике отдела. М. К. Янгель очень демократично проводил совещания по каким-либо проблемам разрабатываемых ракет. Просил выслушать каждого участника совещания, но предупреждал не критиковать предыдущего выступавшего. «Говорите свое личное мнение». Сугубо по проектным проблемам у Михаила Кузьмича в совещании участвовало немного людей, пять-семь человек. После выступления всех участников совещания он каким-то невероятным способом находил оптимальное решение, устраивающее всех. Если к нашим проектам М. К. Янгель относился довольно благосклонно (и ко мне в частности), то к представителям смежных организаций – более жестко, требовательно. Помню Совет главных конструкторов по ракете 8К99, который проводил М. К. Янгель, который перед этим часто болел и все реже появлялся в КБ. Так вот, на этот Совет не приехал ни один Главный конструктор, а только их заместители. Смотрю на Михаила Кузьмича и вижу, как он зол. Совещание начал с вопроса о состоянии дел по конкретному узлу к Антуфьеву, заместителю Главного конструктора В. Г. Сергеева. Антуфьев ответить не может: «Мне надо переговорить с разработчиком…». Спрашивает конкретно другого, третьего. Никто не может сразу ответить. «Так вот, дорогие смежники, я приглашал Главных конструкторов, а приехали их заместители, не обладающие информацией. Передайте своим Главным, что по моему приглашению на Совет должны приезжать Главные конструкторы, обладающие всей необходимой информацией. На этом Совет ГК закончен, все свободны». Вот по смыслу почти дословно, но в более жесткой форме, с применением неформальной лексики. М. К. Янгель был большим дипломатом в отношениях с руководством завода Южмаш. По проблеме, доложенной мной, М. К. Янгель поручил мне разработать специальное решение о доработке системы управления ракеты 8К67, которая уже была установлена на дежурство. Нужно было при регламентных работах заменить программный токораспределитель (ПТР) с увеличением времени работы газогенераторной системы наддува бака окислителя первой ступени. Очень серьезное решение, но М. К. Янгель поверил нам и помогал при его подписании. Мы «мотались» с С. Т. Закаблуком по Москве, ГУРВО, в Киев к разработчикам ПТР. В Москве В. П. Радовский дал мне машину, и мы возили сов. секретное решение как бы в сопровождении охраны. Подписали все. Не подписывал завод в лице главного инженера Луки Лазаревича Ягджиева (топал на меня ногами). Я доложил М. К. Янгелю… Проходит неделя, другая. Звонит Лидия Павловна: «Михаил Кузьмич уезжает в отпуск, уже одевается». Я вниз: «Михаил Кузьмич, Вы мне не вернули решение по ПТР, которое брали для подписи у Макарова». «Как не вернул? Я тебе его отдал». «Нет, Михаил Кузьмич, оно у Вас». Он проверил бумаги на столе, решения нет. «Уверен, что оно у меня?». «Да, Михаил Кузьмич!». Снимает плащ, шляпу, открывает сейф и вынимает из него все бумаги, с самого низа достает решение. «Забыл, прости ты меня, старого дурака. У меня нет времени, машина ждет меня. Я сейчас напишу записку А. М. Макарову. Он подпишет, мне он не откажет». Пишет записку следующего содержания (почти дословно): «Уважаемый Александр Максимович! Очень сожалею, что не могу сам лично доложить проблему. К тебе придет мой сотрудник Антонов с решением, его надо подписать, это очень важно». И говорит: «Дождись Макарова, к Ягджиеву не ходи. Будет все в порядке». И распрощался за руку. У меня в памяти оставалось еще одно большое совещание по минометному старту, на котором я присутствовал. Подробно докладывал проблему Э. М. Кашанов, изложил все плюсы и минусы, и получалось в итоге, что задача нереальна. Михаил Кузьмич, улыбаясь, внимательно выслушал. «У тебя все, Эрик Михайлович? Все. У кого есть вопросы? Нет вопросов». И, похлопывая ладонью по столу: «Так вот, с сегодняшнего дня забыть то, что ты здесь докладывал. Все усилия проектантов, Эрик Михайлович, направить на реализацию минометного старта. Минометному старту – быть!». Смысл сказанного я передаю по памяти довольно точно. Как известно, проблема минометного старта была успешно решена проектантами и конструкторами КБ «Южное». М. К. Янгель оставил глубокий след в моей душе. Хотя у меня были отличные отношения и с другими первопроходцами – Л. А. Берлиным, В. Ф. Уткиным, В. М. Ковтуненко Н. Ф. Герасютой, П. И. Никитиным, И. М. Игдаловым – но своим учителем считаю именно М. К. Янгеля. Он дал мне очень многое. Михаил Кузьмич лично проверял мои отчеты, письма, схемы. Учил, как правильно их выполнять, вплоть до того, как писать научные работы. Октябрь 2010 г. * * *
Алексей Владимирович ТКАЧЕНКО, УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ И КОЛЛЕКТИВОМ Мне часто приходилось быть рядом с Михаилом Кузьмичом Янгелем: на Президиуме АН УССР, в ЦК КПУ, на рыбалке, на охоте и в повседневной работе в родных стенах КБ «Южное». Что поражало в облике Михаила Кузьмича? Сочетание большого ума, такта в обращении с людьми, красноречия в деталях, способность к утомительному и тяжкому труду и умение управлять. Больше всего умение управлять Янгеля зримо проявлялось на Советах Главных конструкторов. Будучи секретарем НТС предприятия, я не раз убеждался, что Михаил Кузьмич имеет самый высокий интеллект. С Михаилом Кузьмичом можно было обсуждать любые проблемы в любых областях знаний. М. К. Янгель рассказывал (при подготовке материалов к десятилетию образования ОКБ-586) подробности, как в аппарате ЦК КПСС его заставляли согласиться поехать в Днепропетровск и возглавить Особое конструкторское бюро № 586. Восемь месяцев Михаил Кузьмич отказывался, считая, что В. С. Будник – Главный конструктор завода № 586 – вполне соответствует должности Главного конструктора ОКБ-586. «Задавили» Михаила Кузьмича таким доводом: «Вы понимаете, что монополия С. П. Королева недопустима и нужна организация для разработки боевых ракет дальнего действия на долгохранимых компонентах топлива. Вы понимаете, что можете возглавить ОКБ-586 и отказываетесь. Тогда мы вообще будем вынуждены отказаться от Ваших услуг». Михаил Кузьмич вынужден был предложить такой компромисс: «Хорошо, я поеду в Днепропетровск на два года. Поставлю дело, а там посмотрим…». Получилось, что в командировке Михаил Кузьмич был семнадцать лет. «Едешь со мной», – так мне было сказано, когда Михаил Кузьмич был приглашен в ЦК Компартии Украины, чтобы рассказать о ракетной технике. Он попросил меня написать «рыбу» лекции для выступления. Это был 1959 год, когда уже лунник облетел Луну. В своей лекции Михаил Кузьмич очень образно рассказал о последних достижениях в ракетно-космической отрасли. В целом лекция прошла успешно, Михаил Кузьмич очаровал всех присутствующих на высшем уровне своего человеческого интеллекта. На высокий уровень культуры мышления Янгеля обратил внимание доктор философских наук, профессор Академии авиационной промышленности, когда в ней учился Михаил Кузьмич. Он с удивлением говорил М. К. Янгелю: «На кой ляд сдалась Вам эта техника, у Вас же философский склад ума. Вы достигнете высокого уровня в философских науках». …После лекции в ЦК КПУ мы зашли поужинать в ресторан на Крещатике, где отведали новинку того времени – котлеты по-киевски. Михаил Кузьмич, видя некоторую мою неловкость, стал рассказывать, как с котлетой надо обращаться, чтобы не облить маслом себя и окружающих. Я впервые имел дело с этим кулинарным шедевром, и Михаил Кузьмич заботливо проследил, как я орудую вилкой и давал четкие указания, что и как я должен делать во избежание конфуза. Вот такой был человек Михаил Кузьмич во всем, на всех уровнях поведения по отношению к любому человеку. В том же ресторане это проявилось в следующем эпизоде: получилось так, что мы заняли вроде свободный столик, но вскоре к нам подсел парень, который был уже в «наполнении». И он встрял в наш разговор. Михаил Кузьмич вступил с ним в беседу. Опять же «душа в душу», а я стал мысленно возмущаться нахальству этого «пришельца». Ведь Михаил Кузьмич в данный момент времени был «мой, моя собственность», и я воспринимал этого нахала как агрессора. Мне было и обидно, и удивительно слушать, как Михаил Кузьмич внимательно объяснил подвыпившему парню сущность жизни. Вот так я убеждался в мере человечности Янгеля, в его умении общаться с людьми. «Давай!» – так кратко и точно Михаил Кузьмич выдавал команду, когда предложение соответствовало цели развития ОКБ-586. Ему не надо было долго объяснять суть предложения. В 1956 году я, уже будучи начальником сектора научно-технической информации, предложил отправить меня в командировку в авиационные организации для того, чтобы лично установить контакты на получение информации из ЦАГИ, ВИАМ, ЦИАМ и других организаций. «Давай!», и дело было сделано, и тот контакт обеспечил поток информации в ОКБ-586 достаточный, чтобы технический уровень наших разработок был на самом высоком уровне. Или такой эпизод. У меня возникло предложение об использовании скоростной съемки для анализа результатов экспериментальной отработки отдельных ракетных и космических систем. Вскоре доложил Михаилу Кузьмичу о возможностях киноизмерений. Походив по кабинету несколько минут, он уверенно сказал: «Давай!». Подготовив заявку в министерство на оборудование на 10 млн руб., я представил ее на подпись. Но буквально мгновенно последовало: «А не слишком ли ты размахнулся?». Мне стало стыдно за мои претензии на создание лаборатории киноизмерений. Заявка была скорректирована и «не глядя» подписана Михаилом Кузьмичом. Он в очередной раз продемонстрировал доверие сотруднику, ответственному за свои действия в интересах дела для всех. Те далекие годы, когда мне приходилось участвовать в работе как непосредственному подчиненному Главного конструктора М. К. Янгеля, были годами учебы умению управлять собой и работой коллектива. И это − великое наследие, оставленное нам Михаилом Кузьмичом. Из сборника воспоминаний «Михаил Янгель», КБ «Южное», 2006 г. * * *
Владислав Анатольевич Шапошников, СВОИМ ДОВЕРЯЛИ По роду деятельности мне не доводилось находиться в постоянных контактах с Михаилом Кузьмичом. Эти контакты носили, можно сказать, эпизодический характер. Однако за 16 лет совместной работы на предприятии и таких эпизодических встреч было немало. И независимо от того, длилась ли наша встреча минуты или для решения отдельных вопросов мне выпадала удача многодневных рабочих контактов, каждый раз во мне оставалось и крепло глубокое удовлетворение и от содержания, и от формы общения с этим замечательным человеком. В декабре 1967 года под председательством М. К. Янгеля была создана комиссия по подготовке совместно с Заказчиком решения по теме 67. В составе этой комиссии на правах рабочего органа от нашего предприятия по принадлежности наиболее проблемных вопросов были В. Н. Лобанов, Е. С. Семенков, Ф. П. Санин и я (в то время и. о. начальника отдела). Михаил Кузьмич, как всегда, был загружен одновременно многими вопросами и не мог постоянно работать в комиссии, а работа эта продолжалась с утра до вечера ежедневно в течение почти двух недель – вопрос был весьма принципиальный. Наша четверка вместе с Б. П. Емельяненковым и В. Ф. Давыдовым (работниками главка) с трудом удерживала организованный напор оппонентов. Все наши предложения тонули в большом числе «уточняющих моментов». И вот утром 14 декабря произошел случай, о котором я и хотел бы поведать. Комиссия работала в кабинете Н. Д. Хохлова (в старом здании). Председатель садился во главе стола (спиной к двери), а по сторонам стола слева и справа от председателя размещались члены рабочих групп и их консультанты. По быстро сложившейся традиции мой стул был четвертым слева. Так вот, в это утро в ожидании прихода Михаила Кузьмича мы обсуждали частные вопросы. У меня были вопросы, которые необходимо было обсудить с представителем Заказчика, сидящим справа от председательского кресла. При беседе я и присел в это кресло и не заметил, как вошел Михаил Кузьмич и сел на мой свободный четвертый слева стул. Когда я это заметил, признаюсь, очень смутился и стал поспешно собирать документы и освобождать место Михаила Кузьмича, но он мне жестом приказал оставаться на месте и сказал при этом: «Так что, Владислав Анатольевич, может, начнем?». Не знаю, было ли заметно по мне, но я при этих словах растерялся окончательно. И тогда Михаил Кузьмич пришел мне на помощь: «Владислав Анатольевич, разрешите мне высказать некоторые соображения». Я понял – Михаил Кузьмич своим авторитетом поддерживает нас, делегируя как бы нам, постоянно присутствующим на этой нелегкой комиссии, свои полномочия председателя и лидера. Я, конечно же, дал слово Михаилу Кузьмичу. Потом у меня (!) слово попросил кто-то из руководителей группы Заказчика, и до перерыва я уже успел настолько освоиться с ролью председателя, что не только «давал слово», но позволил себе на правах ведущего совещания и вступать в полемику с выступающими, и самому брать слово, когда это казалось необходимым. В течение всего заседания Михаил Кузьмич своим примером призывал присутствующих относиться ко мне как к председателю. «Протокол» совещания перешел в наши руки. В перерыве Михаил Кузьмич, прощаясь с нами, сказал: «Не упускайте инициативы! Нельзя, чтобы из-за неясных опасений какого-то перестраховщика были приняты неправильные решения, но и не увлекайтесь!». Я не могу судить о том, в какой мере этот случай повлиял на дальнейший ход событий. В сложной системе взаимосвязанных проблем он может вообще показаться незначительным. Но комиссия, по-моему, приняла правильные объективные решения, которые в известной мере были созвучны с заключительным правительственным документом. В моем представлении этот эпизод свидетельствует о том, что Михаил Кузьмич Янгель был прекрасным психологом и отменным тактиком. Запомнился еще один случай (это было в 1967 или в 1968 г.). В то время по инициативе одного из институтов Заказчика была развернута кампания по так называемой агрегации взвешенных примесей в компонентах. По мнению этого института, в процессе длительного хранения изделий в заправленном состоянии даже при мелкодисперсной фильтрации компонентов может образовываться плотная масса (типа накипи в чайниках) и снижать работоспособность органов управления ЖРД. Поэтому перед промышленностью и, в первую очередь, перед нашим предприятием, а также перед КБ Энергомаш и ГИПХом ставилась задача: экспериментальным путем доказать либо отсутствие этого явления, либо допустимость его. Для очередного обсуждения у заместителя министра по решению Михаила Кузьмича от нашего предприятия была подготовлена бригада под моим председательством в составе М. Д. Назарова и В. Ф. Иванова. В Москву нас доставили специальным самолетом, но все же к началу совещания (как после выяснилось – секции НТС) мы крепко опоздали. К этому времени сторонники идеи «агрегации», главным образом представители Заказчика, при нечеткой (я бы сказал, соглашательской) позиции 2-го главка внушили заместителю министра, что такие эксперименты крайне необходимы, и на наше КБ, как головное, должна быть возложена ответственность по обеспечению и проведению работ. Поэтому доводы нашей «делегации» и доказательства необоснованности выдвинутой концепции не только не были восприняты, но и вызвали какое-то раздражение, были истолкованы как наша близорукость, нежелание решать неотложные проблемы и, наконец, как недопустимое пренебрежение к интересам Заказчика. Разговор был тяжелым. В заключение было предложено подписать решение, в котором предусматривалось проведение (в довольно сжатые сроки) большого объема весьма сложных работ по исследованию «процесса агрегации» и влиянию «агрегации» на работоспособность изделий (практически всех разработанных нашим предприятием в то время). Наша бригада отказалась подписать этот документ. Представители ГИПХ (Г. Л. Антипенко) и КБЭМ (В. С. Радутный), сославшись на наш отказ, также не подписали решения. Тогда председатель попытался оказать на группу, мягко говоря, давление, но мы твердо стояли на своем. После этого в присутствии всего совещания он связался по ВЧ с Михаилом Кузьмичом и в самых нелестных выражениях охарактеризовал и нашу позицию, и меня лично, как руководителя группы. Он потребовал строго наказать меня. Я был из кабинета изгнан с поручением по приезде в Днепропетровск зайти к Михаилу Кузьмичу и напомнить ему о наказании. Не буду скрывать, − настроение было более чем тяжелое. Нелегко мне было заходить к Михаилу Кузьмичу. Я подбирал аргументы поубедительнее. Опасался, что Михаил Кузьмич не найдет времени для детального разбирательства и может не разделить нашего «упрямства». Ведь даже некоторые наши единомышленники после того, как «проблема агрегации» приобрела такой неожиданный оборот, высказывали мысли, что, мол, плетью обуха не перешибешь, и если сам заместитель министра настаивает, то чего вам сопротивляться? – Сверху виднее! Но разговор произошел совсем не так, как я предполагал. Михаил Кузьмич внимательно выслушал доклад о том, как проходил НТС, а когда я попытался аргументировать нашу позицию, сказал: «Вы специалисты – вам виднее!». И с этими словами отпустил меня. Еще более я был удивлен, когда наша бригада, в том числе и я, была премирована за работы по «проблеме агрегации». Впоследствии эта проблема была снята при энергичном участии В. П. Глушко и Академии наук СССР. Этот эпизод, с одной стороны, как будто свидетельствует о неповиновении Михаила Кузьмича указаниям вышестоящего руководства, что само по себе не может положительно характеризовать никого, тем более руководителя такого уровня. С другой стороны, говорит о критическом самостоятельном мышлении и, главное, о доверии к людям, с которыми он работал. Что же касается неисполнительности, то она, по-видимому, не имела места. Думаю, что Михаил Кузьмич смог убедить заместителя министра в неправоте, так как вскоре я был на очередном совещании в министерстве, и наша встреча была вполне доброжелательной (а он меня помнил!). Доверительное отношение, умение быстро разобраться, обобщить материал, умение спросить, но и готовность защитить своих подопечных от нападений – вот черты, характерные для Михаила Кузьмича. Обращали на себя внимание подчеркнутая самостоятельность мышления и изложения. Я наблюдал, когда во время разговора Михаил Кузьмич останавливался, подбирая подходящие предложения или слова, и иногда собеседник пытался подсказать свой вариант. Как правило, Михаил Кузьмич не пользовался «подсказкой». Он находил свой вариант, который, по-моему, во всех случаях был точнее предлагаемого. Март 1991 г. * * *
Виктор Иванович БАРАНОВ, ЧЕЛОВЕК И ЛЕГЕНДА Янгель – большой человек, очень большой, может быть великий. Но человек. И как человеку ему присущи все человеческие качества, положительные и отрицательные, сильные и слабые. Его жизнь – тому подтверждение. Какой-то рок непрерывно висел над ним. Он постоянно, словно по чьему-то указанию, совершал большое, историческое и окунался в житейские неурядицы, может быть, и ошибался. И возносился, и падал, очень помогал людям, жестоко расплачивался за чужое предательство, терял и отказывался от помощников (даже товарищей и друзей), предавался слабостям в ущерб здоровью. Короче – не был святым. Он жил в постоянном напряжении, как будто все время ждал какой-то расплаты за содеянное. Ему везло и не везло. У него было все (вроде бы): и слава, и почет, и благополучие, по крайней мере – внешнее. Но у него не было настоящего человеческого счастья. Он жил нервно и неровно. Он – Главный конструктор стратегических ракет, дважды Герой, лауреат, академик. У него квартира в престижном районе Москвы и великолепный дом-дача, у него прекрасное жилье в Днепропетровске. У него жена – профессор, талантливые дочь и сын. И одновременно – нет семьи. Он живет нигде. Ни в Москве, ни в Днепропетровске. Он – в вечной командировке. У него и жизнь – это командировка в саму жизнь. Если посмотреть на основные вехи его жизни с теперешних позиций, все это не может остаться незамеченным. Родом из глухой Сибири, приехал в Москву, через трудовые тернии пробился в Авиационный институт, блестяще его окончил, работал в КБ знаменитого Поликарпова. Женился на красивой, общительной, зажигательной девушке – тоже студентке МАИ. Быстрый рост по службе, поездка в Америку. Но вдруг брата арестовывает НКВД, и сам М. К. Янгель попадает под подозрение. Но судьба его выручает. Война. Очень стремился уйти добровольцем на фронт, но в тылу он нужнее. В постоянных и длительных командировках обеспечивает поставку авиационной техники из Сибири. Разжалование и смерть Поликарпова – очередное переживание. Вхождение в ракетную технику после окончания Академии авиационной промышленности. Становится директором института, где в его подчинении знаменитый С. П. Королев – признанный родоначальник советского ракетостроения. Почему начальник Янгель над Королевым, а не наоборот? С Королевым, неуживчивым из-за большого самомнения, постоянные стычки. В отличие от многих Янгель не скрывает и тем более не сглаживает своих с ним взаимоотношений, практически не уступает ни в чем (эти трения тоже не бесследны). В эти годы на международной арене сердцевиной американского курса становится стратегия «Эйзенхауэра–Даллеса», которая предусматривает постоянное давление на социалистические страны угрозой глобальных ядерных ударов. Разработана целая серия планов ядерного нападения на СССР. Правительство принимает ответные меры – создание собственного ракетно-ядерного щита. Главное в жизни и деятельности М. К. Янгеля – создание КБ «Южное» и работы по обеспечению обороноспособности страны, созданию ракетного щита, охраняющего нашу Родину. На коллектив совсем молодого КБ, на Янгеля возлагается серьезная, государственной важности задача – в кратчайшие сроки ликвидировать образовавшийся разрыв с США. Янгель это прекрасно понимает. Днепропетровский, оказавшийся последним, жизненный этап М. К. Янгеля. Планировал (говорил жене, успокаивал себя) на 2-3 года, пока воспитает себе замену, а оказалось – на всю оставшуюся жизнь. Это главная причина многих семейных, а косвенно и производственных неприятностей и неудач. Постоянное раздвоение, и в результате ни здесь, ни там, нигде… Но жизнь идет, дело делается, пустоты заполняются частностями, на первый взгляд радостными, но накапливающими бомбу. Одно из противоречий – тщательный отбор и расстановка молодых специалистов и слишком доверчивое отношение к «переводчикам», некоторые из которых доставили Янгелю немало хлопот своим поведением на работе и в быту. Терпит, сглаживает, переживает, но дело делает. Работа поглощает все. Результат – полнейший успех: сдача первой ракеты принципиально нового янгелевского направления, присуждение звания Героя Янгелю и его первому заму Буднику. Напряжение не снимается. Вторая ракета – вторая звезда Героя. Янгель щедро раздает ордена, звания и ученые степени. Правда, приговаривает: «За все спрошу». С теми, кто работает, кто верен ему и кому верит он, Янгель – товарищ вне зависимости от возраста и положения. Обещанное (по любому вопросу и даже в самых нерабочих ситуациях) всегда выполняет. Пользуется огромным авторитетом. Исключительно внимателен, интересуется всем, часто со многими советуется, помогает. Он неповторим на работе и вне ее. Его просто любят. На внешнем фронте – неверие Королева в успехи нового ОКБ. Большие споры в высоких кругах о возможности создания межконтинентальной ракеты на высококипящих компонентах. Экспертная комиссия во главе с Келдышем дает «добро». Третью ракету делают на одном дыхании (чисто внешне, а сколько потребовалось здоровья, энергии, чтобы все пробить, организовать, обеспечить, сделать и отправить на полигон в срок). Безусловно, Янгель – талант. И технический, и особенно – организационный. И самое главное – он политик. Далеко смотрящий, опытный и мудрый. 24 октября 1960 года. Катастрофа при предпусковой подготовке первой межконтинентальной ракеты Р-16. Погибли люди, его ближайшие помощники, товарищи, специалисты. А он остался… Известно нескрываемое раздражение Н. С. Хрущева по этому поводу. Хотя о случившемся ни Председатель, никто из самых ответственных членов Государственной комиссии не решился доложить Хрущеву первым. Это сделал Главный конструктор М. К. Янгель. Каким бы ни был человек, нельзя пережить такое бесследно. Самой жизнью нанесен удар по престижу ОКБ, по личному престижу. Все это надо восстановить. И не только восстановить – делать ракеты лучше любой конкурирующей фирмы. Не на третьем, а на шестом году потеря надежды на возвращение в Москву, обещанное жене, семье. Это было, пожалуй, самое большое и тяжелое падение в сложной судьбе Янгеля. Еще не завершены Государственные испытания первой боевой межконтинентальной ракеты Р-16, а за горизонтом зреет Кубинский кризис. И по существу на экспериментальных ракетах, меняют телеметрические головные части на ядерные боеголовки и прямо на испытательном полигоне ракеты переводят в полную боевую готовность. С личной гарантией, при огромной государственной ответственности и убежденности Янгеля: если надо – ракеты не подведут! Создаются ракетные войска стратегического назначения. Ракеты Янгеля Р-12, Р-14, Р-16 – первое поколение РВСН. Усилиями Янгеля, коллективов КБ и завода страна в кратчайшие сроки не только ликвидирует разрыв с США, но и в дальнейшем пресекает попытки США получать односторонние преимущества даже за счет особо изощренных технических решений. Все бы хорошо, но на небосклоне появился конкурент – В. Н. Челомей, ранее занимавшийся морскими крылатыми ракетами, но взявший себе в заместители сына Хрущева и решивший с его помощью переквалифицироваться на более модные стратегические (после этого крылатые ракеты и погибли). В ОКБ приехала бригада специалистов от Челомея и потребовала необходимую документацию на новые разработки для своей фирмы. Проявив стойкость и мужество, В. С. Будник категорически запретил подчиненным раскрывать самые сокровенные, очевидно перспективные и безусловно оригинальные замыслы. Но последовал звонок Хрущева-старшего и… Хрущеву-младшему передали абсолютно все. Для М. К. Янгеля это еще один удар. И не последний, потому что, пользуясь семейным рычагом, Челомей не раз еще пересекал, перепахивал дорогу Янгелю. Постоянные конкурсы с фирмой Челомея на новые, но, увы, параллельные и даже идентичные разработки были уже на пределе возможностей и мешали так, что Янгель, хотя и выигрывал, но вынужден был начать сепаратные переговоры с Сергеем Хрущевым о его переходе к Янгелю заместителем (все – во имя дела). Беда не ходит одна. Янгель начинает серьезно побаливать. Себя не жалеет, в отпуск не ходит, позволяет себе разгрузку после нелегкого трудового дня. Сместили Хрущева. С Брежневым полегче, но ненамного. Работы не убавляется. Выбивает для ОКБ новую интересную тему – ракету на подвижной установке. Одновременно создается унифицированная ракета тяжелого класса. Унифицированная, потому что кроме обычной моноблочной на ней испытываются и несут боевое дежурство созданные впервые в мире орбитальная и многоэлементная разделяющаяся головные части. Приезд президента Франции де Голля в Советский Союз, посещение Байконура, демонстрационный пуск тяжелой янгелевской ракеты из шахты. Потрясающий эффект. Говорили, что под впечатлением этого визита Шарль де Голль сформировал свое решение о выходе из НАТО. В ОКБ идет интенсивная работа на задел, перспективу. Коллектив растет и качественно, и количественно. Янгель понимает, что в количественном отношении превышен допустимый предел. Коллектив становится слабо управляемым. Лишь временно помогают организационно-структурные преобразования. Между тем, людей переводят из одних подразделений в другие без его, Янгеля, ведома. Он раздражен. Узнает, что за его спиной распространяют слухи об утрате Янгелем былых организаторских и человеческих качеств. Ссора с Главным конструктором, талантливым ученым Е. Г. Рудяком, не поверившим в идею минометного старта для тяжелых ракет. Решительные действия Янгеля и… Главный Рудяк – уже не Главный. Рудяк не мог прийти в себя, не поверил, к своему сожалению, в возможности Янгеля (ни в минометном старте, ни на посту ответственного руководителя разработки ракетного комплекса). А все это – траты физической и нервной энергии. Кратковременные наезды в Москву не утешают семью. Международная обстановка продолжает обостряться. Ускоряется гонка вооружений. Требования к ракетам Янгеля ужесточаются, давление правительства и военных растет, сжимаются сроки разработки, сжимается пружина, которая все сильнее давит на здоровье, на сердце. Готовая вот-вот распрямиться и разорвать живое. Так и случается. Инфаркт, тяжелое выздоровление. Позже страшные циклы повторяются. Не бесследно. На работе формируется оппозиция, мешающая его авторитету в ОКБ, и Янгель об этом узнает, резко сокращает космическую тематику, переориентирует высококвалифицированных специалистов на создание новых видов боевого оснащения ракет. Одни недовольные ушли сами, других заставил замолчать. Не мельчил. В резкой форме ставил на место зарвавшихся, утративших чувство меры. Не любил тех, кто просил за себя через приближенных. Стал отличаться скромностью в одежде, в интерьерах помещений нового корпуса, в обстановке своего кабинета. Держатель огромных сумм на новые разработки, он многое отдавал смежникам, давал жить другим больше, чем своим, себе. Часто по этому поводу его подковыривал Н. А. Пилюгин. Но годы берут свое. Не то здоровье, не те силы, хотя за плечами огромный опыт. И мысли, мысли… Тяжелые, неутешительные. Угнетала общая неустроенность. Есть работа, есть перспектива, есть признание, есть коллектив с огромными возможностями. Нет только внерабочей жизни, нет семьи. Вечерами садится в ЗИМ и кружит по городу. Размышляет, строит планы, готовит себя к завтрашнему дню. Наутро на работе многое его раздражает: бегущие к началу работы и сразу же после нее молодые ребята, жалобы на задержку в выплате зарплаты, отсиживавшиеся, не выступавшие на совещаниях начальники. Переживает, нервничает. Болеет, заметил про себя – часто стал размышлять о смерти. Где лучше быть похороненным: на Новодевичьем кладбище или у Кремлевской стены… Пожалуй, у Кремлевской. Там Чкалов, Королев, Курчатов, там особый престиж, внеземной… Скоро 60 лет. КБ готовится к знаменательной дате. В подарок сняли кинофильм, изготовили альбом, сувенир с макетами всех созданных Янгелем ракет… Чествование намечалось проводить в Москве. Янгель предупреждал: «Не вздумайте лететь все одним самолетом, добирайтесь врассыпную». Боялся обезглавить КБ в случае аварии. С некоторых пор он страшился аварий, боялся чего-то надвигающегося. Одна любопытная деталь: к юбилею был заказан памятный значок, художник выполнил его в виде вертикально расположенного вытянутого прямоугольника, в верхней части которого был изображен профиль Янгеля. Рабочий, изготавливавший значки, повернул прямоугольник по горизонтали и ляпнул без умысла: «Как в гробу лежит…». Руководство не на шутку испугалось, ошибку художник исправил, а пророчество сбылось… 25 октября 1971 года, в день своего юбилея, во время чествования Михаил Кузьмич скоропостижно умер. Дело М. К. Янгеля успешно продолжают его талантливые последователи, его ученики, которых он воспитал личным примером. Под их руководством коллективом КБ «Южное» разработано большинство типов ракет, составляющих основу ракетных войск стратегического назначения – советского ракетно-ядерного оборонного щита. Из газеты «Конструктор», октябрь 1991 г. * * *
Михаил Яковлевич ВИНОГРАДОВ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ВСТРЕЧ С Михаилом Кузьмичом я впервые встретился в 1954 году, когда на заводе шло становление нового производства. До этого я только слышал о нем как об одном из ведущих работников отрасли и как о директоре головного института. В середине лета 1954 года на территории и в цехах завода, в кабинетах директора, главного инженера и Главного конструктора мы изредка стали встречать высокого, худощавого человека в коричневом костюме. Его мягкие манеры, тихий разговор, чуть заметная приветливая улыбка на простом и приятном лице, внешняя подтянутость и аккуратность создавали привлекательный облик «постороннего», приезжего человека, располагающего к себе с первого взгляда. В этот период на заводе было много приезжих людей. Среди них были разные. Одни – очень важные и сосредоточенные, другие – по-чиновничьи напыщенные, третьи – не в меру суетливые и бесцеремонные. «Новый командированный» среди них выделялся своей скромностью, обходительностью и деликатностью. Он больше слушал, чем говорил. Слушал внимательно и вдумчиво, чуть-чуть нахмурив брови. Его вопросы и ответы были короткими, ясными и содержательными. Для многих первый приезд этого человека остался малозаметным, так тихо и скромно провел он свое ознакомительное пребывание на заводе. Даже многие руководители отделов и служб завода не могли с достоверностью что-либо сказать о миссии этого любезного человека. И только наиболее осведомленные с оговорками, в предположительной форме, сообщали «по секрету», что, «возможно, он будет начальником и Главным конструктором нашего КБ. В один из дней в начале августа 1954 года в 9 часов утра меня неожиданно вызвал директор завода Л. В. Смирнов. В кабинете у стола директора сидел человек с простым открытым улыбчивым лицом, тронутыми сединой висками. В нем я узнал «командированного» в коричневом костюме. Когда я вошел в кабинет, человек поднялся, сделал несколько шагов навстречу, внимательно посмотрел на меня из-под чуть опущенных бровей, протянул руку и, улыбаясь, приветствовал меня по имени и отчеству. При этом он отрекомендовался как начальник и Главный конструктор ОКБ. Так состоялось наше первое знакомство с Михаилом Кузьмичом Янгелем. После наших взаимных приветствий с новым Главным конструктором директор завода распорядился: «Покажите Михаилу Кузьмичу наш годовой план производства и тематический план конструкторов. Кроме того, окажите Михаилу Кузьмичу практическую помощь по всем организационно-плановым вопросам». На второй день, за несколько минут до звонка (в то время наш рабочий день официально начинался в 9 часов, фактически – значительно раньше), спросил, можно ли, прошел к окну, сел на стул и попросил разрешения закурить, хотя окна в кабинете были открыты. Честно говоря, я был смущен такой деликатностью гостя и даже несколько растерялся, ибо такое в те штурмовые дни в нашей практике случалось редко. Я поторопил своих сотрудников, сказав им при этом: «Давайте закончим позднее!». «Нет, почему же? Рассмотрите начатые вами вопросы, я подожду. Нам с Вами сегодня, если для Вас будет удобно, предстоит обстоятельный разговор». Когда сотрудники вышли, Михаил Кузьмич легко и просто начал беседу. Сначала он спросил меня, откуда я приехал на завод, нравится ли мне город, нравятся ли дела, которыми заводу предстоит заниматься. Отвечая на вопросы, я совсем забыл о том, что мы с Михаилом Кузьмичом познакомились только вчера, столь легкой и непринужденной была атмосфера, в которой протекала беседа. Михаил Кузьмич незаметно перевел разговор на перспективные дела завода, которые ему предстояло решать в ближайшее время (он говорил: «…нам с Вами предстоит решать»). Особенно подробно и интересно он говорил о тех широких и важных перспективах, которые открывались перед будущим вновь созданного КБ. М. К. Янгель вежливо, с подробностями разъяснил мне преимущества, которые несет новая техника. По его просьбе принесли план завода и КБ на 1954 год и проект плана на 1955 год. Михаил Кузьмич молча и сосредоточенно листал и рассматривал документы. Я извинился перед ним и вышел в другую комнату, предоставив ему возможность поработать в одиночестве. Когда я вернулся, Михаил Кузьмич уже свернул бумаги, закрыл папки и стоя курил у окна. При моем появлении он продолжительно, с улыбчивым прищуром, посмотрел на меня и спросил: «Вам не кажется, Михаил Яковлевич, что план такого завода беден по содержанию и мелок по номенклатуре? Проект же плана КБ на 1955 год совсем куцый. Вы согласны со мной?». Я с ним согласился и добавил: «Вы правы, Михаил Кузьмич, тележки, вибраторы, генераторы и ЗИПы – не загрузка для нашего завода. Но что поделаешь, нас пока подгружают, как бедных родственников, номенклатурой, которую исключают в порядке расчистки планов других предприятий. Этот вопрос обсуждался на заводе неоднократно, но у наших конструкторов пока ничего нового не созрело, да и денег на новые разработки нам пока дают очень мало». Михаил Кузьмич долго молчал, потом, улыбнувшись, заметил: «Вот и хорошо, вот и приятно, что Вы общую ситуацию понимаете четко». И многозначительно добавил: «Значит, в формировании дальнейших планов мы будем, надеюсь, единомышленниками». На этом закончилась наша первая деловая встреча. Когда Михаил Кузьмич ушел, меня охватило какое-то радостное волнение. Было приятно думать, что у нас Главным конструктором будет такой общительный, такой любезный и простой человек. Через несколько дней он снова зашел ко мне. На этот раз мы встретились как старые знакомые. Наш разговор начался сразу в плане конкретных практических дел. «Нам совместно с Вами необходимо подготовить несколько важных документов и в том числе структурную схему и Положение о конструкторском бюро, − Михаил Кузьмич глубоко затянулся сигаретой, глядя в открытое окно, и после некоторого размышления добавил, − и, видимо, пересмотреть и значительно расширить проект плана конструкторских работ на 1955 год. Вы не возражаете?». После столь убедительного просвещения в предыдущей беседе о развитии нового направления конструкторских работ, после ясной и обезоруживающей простоты в обращении и постановке вопросов у меня не было никаких оснований и тем более желания возражать. Так началась моя практическая работа под непосредственным руководством Михаила Кузьмича. Мы начали готовить проекты организационной схемы, Положения о КБ и прорабатывать план конструкторских работ на 1955 год. Встречались мы главным образом во второй половине рабочего дня и вечерами. К концу августа были готовы черновики нужных материалов. Михаил Кузьмич внимательно прочитал их, аккуратно собрал листы и сказал: «С Вашего разрешения я заберу их себе и на досуге еще поработаю над ними». Мы условились встретиться у него на следующий день в 7 часов вечера. Я пришел за 10-15 минут до назначенного времени. Михаил Кузьмич поднялся из-за стола и, как бы знакомясь вновь, крепко пожал мне руку, подчеркивая тем самым практическое начало нашей совместной работы. Как и в предыдущий раз, я почувствовал некоторое смущение от этого внимания и искренности, проявленных ко мне, рядовому работнику завода, со стороны начальника и Главного конструктора ОКБ. На письменном столе Михаила Кузьмича лежали два документа: проект «Положения об ОКБ-586», чисто переписанный его аккуратным почерком, и собственноручно нарисованная им на большом листе структурная схема организации. К 7 часам в кабинете собрались заместитель Главного, некоторые начальники отделов, секретарь партийного бюро и председатель профсоюзного комитета КБ. Когда все расселись за длинным столом, Михаил Кузьмич встал и тихо начал: «Я пригласил вас, товарищи, для того, чтобы рассмотреть наши главные организационные вопросы и прийти к единодушному их решению, чтобы после этого начать активно заниматься делом, к которому мы призваны. Мне известны мнения по этому вопросу присутствующих здесь товарищей, я внимательно рассмотрел их, поспорил, все взвесил и пришел к твердому убеждению, что организация и руководство КБ должны осуществляться на следующей основе. КБ – расти и развиваться как головной проектной организации на производственной базе завода. Заводу – расти и крепнуть как головному предприятию на основе и в процессе материального воплощения наших проектов». Он остановился, окинул всех пристальным взглядом, как видно, рассчитывал убедиться в том, какое впечатление произвел на присутствующих сформулированный тезис, и добавил: «Имеющие место разговоры о «самостоятельности», о «независимости» или о том, что важнее – завод или КБ, − еще раз взглянул поочередно на двух-трех человек из присутствующих и решительно припечатал, − право же, не имеют практического смысла и, если хотите, на данном этапе являются вредными». Далее он кратко изложил проект Положения и структурную схему КБ. После нескольких вопросов присутствующих, на которые последовали обстоятельные ответы докладчика, все стало ясно. Охотников спорить не нашлось. Так была определена и заложена организационно-правовая основа КБ. Разговоры и споры о будущем новой организации и в КБ, и на заводе прекратились. КБ начало активно входить в колею творческой проектно-конструкторской работы. Михаил Кузьмич был крайне перегружен. Работал с раннего утра и далеко за полночь. Занимался организационными вопросами, принимал людей, рассматривал проектные материалы, внимательно следил за становлением производства, оказывая ему всяческую помощь. В этой большой и сложной работе, когда время считалось на часы и минуты, он всегда оставался спокойным, выдержанным, четким и по-прежнему корректным со всеми людьми, независимо от их рангов и положений. В подтверждение сказанному можно было бы привести сотни, тысячи ярких примеров его умелого руководства делами, внимательного и чуткого отношения к людям, но в краткой статье можно описать лишь немногие из них. Помню, как однажды в моем присутствии в кабинет Михаила Кузьмича, приоткрыв дверь, заглянул рядовой работник одного производственно-лабораторного подразделения (как видно, минуя секретаря) и робко спросил: «Разрешите?». Михаил Кузьмич оторвался от рассматриваемого документа, поднял голову, посмотрел на непрошеного посетителя и спокойно ответил: «Войдите!». И тут же, не отрывая взгляда от вошедшего, спросил: «Что Вы хотели?». Вошедший молодой человек начал скороговоркой: «Михаил Кузьмич, при демонтаже стенда нам приказали резать конструкции автогеном, а не разбирать…, а ведь можно… они еще могут пригодиться вторично…», – и, несколько смутившись, замолчал. Михаил Кузьмич доброжелательно улыбнулся и спросил: «А Вы начальнику отдела докладывали?». «Докладывал». «Ну и что же он Вам на это ответил?». Собеседник вяло и безнадежно махнул рукой и промолчал. В это время Главный продолжал внимательно рассматривать смутившегося парня и деликатно, несколько извиняющимся тоном сказал: «Сейчас я занят. Вы можете зайти ко мне завтра, после окончания работы? Я хотел бы выслушать Вас более подробно». Спросил фамилию товарища и записал на календарь. Посетитель от удовольствия расплылся в улыбке и с готовностью бойко ответил: «Спасибо, я обязательно зайду!». И торопливо и бесшумно выскользнул за дверь. Я внимательно наблюдал за этим любопытным диалогом академика с рядовым техником и думал: «Удивительно! Столь занятой и сосредоточенный руководитель (а я знал серьезность документа, который он рассматривал!) без единой нотки неудовольствия переключился на беседу с неожиданно появившимся человеком. Проявил столько такта и внимания». И не случайно на прием к Михаилу Кузьмичу тянулись многие, если не сказать все, работники основного состава предприятия, часто в ущерб субординации. Одни – с дельными проектными предложениями, не понятыми или не оцененными руководителями подразделений, другие – за советом, третьи – в поисках правды. И мало кому он в приеме отказывал. А подчиненные, зная, как внимателен Михаил Кузьмич, не шли к нему зря с вопросами, которые следовало решать на ином уровне. Михаил Кузьмич не понуждал, он в деликатной форме подводил подчиненных к творческому и самостоятельному решению больших и малых вопросов. Когда обстоятельства все же заставляли подчиненных обращаться к нему за советом или помощью, он обычно внимательно и до конца выслушивал собеседника, а потом говорил: «А Вы знаете, мне кажется, что Вы еще далеко не полностью использовали собственные возможности для решения этого вопроса». И подробно начинал перечислять, что нужно и можно еще сделать своими силами, и далее добавил: «А мои ресурсы и возможности оставьте как Ваши же резервы». И в этом он редко ошибался. У исполнителя открывались дополнительные возможности и дополнительные силы для достижения поставленной задачи. Если же Михаил Кузьмич убеждался, что вопрос действительно требует его вмешательства и помощи, он делал это решительно и в полную меру своих сил, не откладывая на завтра. Он не выпускал из своего поля зрения этого вопроса до его полного завершения. Конечно, не все и не всегда в объяснениях с ним происходило гладко, были и острые ситуации, доходившие до определенного накала. Но и здесь всегда выручали выдержка, такт и великодушие Михаила Кузьмича. Так, поощряя своих подчиненных к творческим и более смелым решениям, он постоянно вселял в них уверенность в собственные силы. Был такой случай. Мы очень серьезно и обстоятельно готовились, при активном участии Михаила Кузьмича, к защите в министерстве проекта плана на восьмую пятилетку. Михаил Кузьмич внимательно рассматривал каждую позицию подготовленных таблиц и плакатов. При этом особо пристально рассматривал один из разделов номенклатурного состава работ. Доложить проект плана на весьма представительном совещании в министерстве он собирался лично. Совещание было назначено на 15 часов. С утра этого дня Михаил Кузьмич должен был поехать на прием в другую высокую организацию. Предупредив меня об этом, он сказал: «Действуйте, в случае чего, по обстоятельствам». Совещание началось, но Михаила Кузьмича не было. Делали сообщения представители других организаций. Приближалась наша очередь, я начинал волноваться и нервничать. В голове вихрем проносились мысли: «Что предпринять? Как быть?». Вдруг пушечным выстрелом «грянул» вызов нашей организации. Я встал, как оглушенный, сообщил, где находится Михаил Кузьмич, и высказал предположение, что его там задержали (оно так и было, как выяснилось позднее). Справившись с волнением, я спросил у председательствующего: «Если не возражаете, я могу доложить Вам по проекту плана». Председатель после некоторой паузы пригласил меня для сообщения. И надо же было такому случиться, что буквально за полминуты до окончания моего сообщения в дверях зала появился Михаил Кузьмич! Я чуть не поперхнулся, но все же закончил свое сообщение. Михаил Кузьмич с подкупающим, чуть заметным смущением извинился перед многолюдным совещанием за опоздание и обратился к председательствующему: «Георгий Александрович, я должен дать какие-то дополнения, пояснения или ответить на вопросы?». Председательствующий с напускным видом неудовольствия ответил: «Нет, все ясно, Михаил Кузьмич». И, помедлив, добавил: «Твой представитель оказался более лояльным к разделу «К», чем ты сам». Это добавление, как видно, целиком и полностью было каким-то жестом в адрес Михаила Кузьмича, понятным только им двоим, так как я ни на грамм не отступил в своем сообщении от установок Главного конструктора. «Ну, – думаю, – пропала моя голова!». На следующее утро я ожидал Михаила Кузьмича в установленном месте в главке. Приготовился к самому худшему – к разговору и выговору за раздел «К». Михаил Кузьмич появился в прекрасном настроении и первым делом начал разыгрывать меня: «Ну как, «докладчик», вчера здорово перетрусил?». Я сидел перед ним смущенный и молчал. Он тем же мягким тоном, но более серьезно добавил: «Можете не волноваться, я разговаривал с Георгием Александровичем, он остался доволен Вашим сообщением, а меня Вы ничуть не подвели». Так легко и просто закончился этот курьезный случай. Будучи в министерстве, я многократно обращался к Михаилу Кузьмичу с просьбой о кратких визитах к рядовым исполнителям, от которых зависела своевременность подготовки и продолжения тех или иных решений. В таких случаях Михаил Кузьмич сначала отпускал несколько шутливых замечаний о «коварстве» подобных приемов и все же назначал время для визитов. В назначенное время он появлялся в установленном месте, вежливо приветствовал сотрудников, присаживался на несколько минут, спрашивал, нет ли каких претензий к нашей организации и ее службам, с исключительным тактом затрагивал интересующий нас вопрос, просил не обижать «провинцию», просто и вежливо желал присутствующим всего доброго и удалялся. Делал он это легко и просто, с полной искренностью и сердечностью. Результаты таких «визитов вежливости» сказывались на делах на следующий же день самым благоприятным образом. За 50 лет своей трудовой деятельности я знал много больших и малых, плохих и хороших руководителей. И если бы было возможно повторить пролетевшие 17 лет работы под началом М. К. Янгеля многократно, я, ни на минуту не задумываясь, без всяких оговорок с радостью дал бы на то свое согласие. Апрель 1974 г. 
|