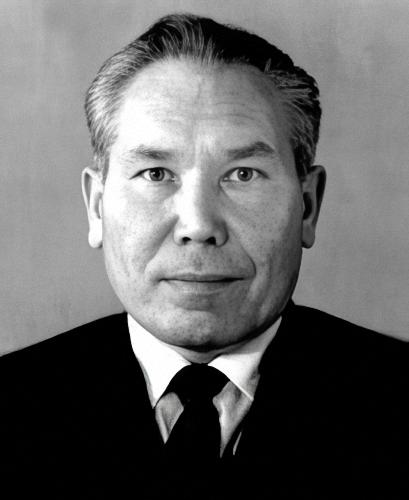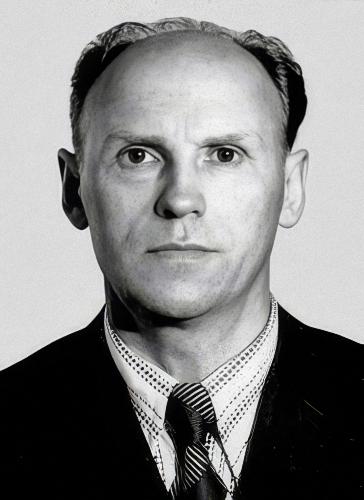|
|
|
|
|
|
|
|
|
Под общ.ред. А.В.Дегтярева
Днепропетровск 2011
Наш адрес: ruzhany@narod.ru |
|
На этой странице сайта:
* * *
Василий Степанович МОРОЗОВ, МУДРЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК М. К. Янгель всегда с пониманием относился к нуждам технического отдела в части оснащения и комплектации оборудованием и людьми. Вот несколько примеров. Люди были нужны позарез и нашему отделу, и подразделениям Н. Ф. Герасюты, а лимитов не хватало. Михаил Кузьмич рассудил так: «Николай Федорович, если Ваши люди один отчет не выпустят, большой беды не будет. Если Морозов перестанет размножать документы, то он завод остановит». И отдал людей нам. Еще один пример. Наш отдел оснащался новой множительной техникой и мы заказали ротапринт. После поступления машины ее пытался перехватить завод, и ротапринт выгрузили около заводоуправления. Единственной возможностью получить машину было вмешательство Михаила Кузьмича. У него шло совещание, присутствовал и главный инженер завода Л. Л. Ягджиев. В конце совещания я зашел к Михаилу Кузьмичу, сел и жду, когда он освободится. Он меня спросил: «Зачем пришел?». Немного заикаясь, изложил ему суть вопроса. Михаил Кузьмич звонит Макарову и говорит: «Слушай, Александр Максимович, твои люди забрали наш ротапринт и не хотят отдавать. У меня тут Морозов сидит со слезами. Отдай». Через некоторое время положил трубку и говорит мне: «Иди в УКС и оформляй. Отдадут тебе машину». При этом Л. Л. Ягджиев ни одного слова не произнес. Так мы получили второй ротапринт, что помогло в нашей дальнейшей работе при выпуске документации. Михаил Кузьмич умел оказывать помощь, но умел и требовать. Была такая ситуация, что в отделе накопилось много копировальных и множительных работ, а людей не хватало. Не имея еще достаточного опыта руководителя, я пришел к Михаилу Кузьмичу и, изложив свои беды, говорю: «Не знаю, что мне делать». Он меня внимательно выслушал и говорит: «Что, тебе кепку дать?». Я его понял и ответил: «Михаил Кузьмич, спасибо. Я недавно купил новую кепку. Разрешите идти?». Он только сказал: «Иди». И я ушел. Таким образом, он мне преподал урок, что голова дана не только для того, чтобы кепку носить, но и думать, искать выходы. После этого я к нему ходил всегда с готовыми предложениями, конкретными требованиями. В отношениях с людьми для Михаила Кузьмича была присуща человечность. Он очень часто мог по-товарищески делиться и давать советы не только по работе, но и по житейским делам. По-моему, Михаил Кузьмич больше всего ценил в людях инициативу и честность. Июнь 1980 г. * * *
Лидия Михайловна НАЗАРОВА, ТЕХНИЧЕСКИЙ КРУГОЗОР И ЭРУДИЦИЯ Михаил Кузьмич Янгель сохранился в памяти моей как чрезвычайно чуткий и простой в обращении с людьми человек. На совещания к нему приглашались все нужные для обсуждения данного вопроса люди независимо от рангов; атмосфера на совещаниях была всегда деловая, свободная: каждому предоставлялась возможность высказать свое мнение не вообще, а по существу. Помню, в период становления ОКБ-586 и разработки одного из первых изделий Михаил Кузьмич лично занимался вопросами планирования работ во всех подразделениях и, главное, планированием изготовления узлов для экспериментальных работ, когда у ОКБ было свое опытное производство. Михаил Кузьмич был хозяином своего слова. Я не помню такого случая, чтобы он что-то пообещал и не сделал; наоборот, он очень много обещал и всегда выполнял и старался во всем, чем мог, помочь. Принятие решений никогда не откладывал. В 1954–1957 гг. наш сектор занимался не только разработкой агрегатов автоматики, но и систем, что создавало большие трудности в работе. Я подошла к Михаилу Кузьмичу, рассказала ему об объеме работ в секторе, о наших трудностях, и он сразу же принял решение выделить группу систем в самостоятельный сектор. Та же ситуация повторилась и при организации нашего отдела в 1961 г., когда объем работ возрос в 2-3 раза. Вспомнились дни совместной работы с М. К. Янгелем в Загорске, когда проводились первые стендовые испытания одного из изделий. Михаил Кузьмич утром приходил на работу, собирал всех специалистов, намечал план работ на день, контролировал их выполнение, разгильдяям устраивал разгон. Он умел это делать тихо, тактично, но от его замечаний делалось стыдно. Несмотря на огромную занятость и частые командировки в Москву, Михаил Кузьмич согласился быть научным редактором нашей книги «Клапаны пневмогидросистем». Когда я принесла рукопись книги Михаилу Кузьмичу для редактирования, он оставил ее буквально на 2-3 дня. После просмотра пригласил меня и выдал целый ряд конкретных замечаний по существу, с которыми нельзя было не согласиться. Память о Михаиле Кузьмиче Янгеле, отличном руководителе и выдающемся ученом с большим техническим кругозором и эрудицией, простом и чутком человеке будет жить в наших сердцах. Февраль 1981 г. * * *
Николай Андриянович ЛОЖКО, КОМАНДИРОВОЧНЫЕ ЭТЮДЫ …На полигоне в три часа дня по местному времени начала собираться госкомиссия. Я тоже зашел в зал и сел в заднем ряду. За председательским столом заняли места Янгель и председатель госкомиссии по приемке изделия на вооружение генерал-лейтенант Григорьев. В переднем ряду сидел Грачев и все его основные помощники, референт Журин, полковник Матренин. В зале было много офицеров с артиллерийскими эмблемами на погонах, среди которых я заметил и капитана Сенаторова. Присутствовали руководители и специалисты от головной и смежных организаций. Военные обычно называли нашего брата «промышленниками». Коротко выступил Михаил Григорьевич Григорьев. − Волею судеб, – генерал обвел глазами всех присутствующих, – на всех нас, находящихся в этом зале и в ближайших пределах, возлагается ответственнейшая миссия довести летно-конструкторские испытания 67-й машины до их успешного завершения к концу текущего года. Такой срок определен руководством страны, и мы должны предпринять все от нас зависящее, чтобы в него уложиться. Новое изделие ждет армия, от нашей работы зависит обороноспособность страны. Будучи в этом деле облеченным ролью, так сказать, судьи и прокурора, я призываю вас всех отнестись к делу с максимальной серьезностью и ответственностью. Обещаю вам всяческую поддержку госкомиссии в оперативном решении любых вопросов и максимальную строгость в случаях проявления безответственности и разгильдяйства, не взирая на звания и должности… Привыкшие уже к несколько витиеватой речи председателя госкомиссии присутствующие выслушали его с должным вниманием и уважением. В какойто из выпавших на долю генерала передряг он потерял одно ухо, на его месте виднелись лишь небольшие бугорки и шрамы, но это ничуть не портило внешность старого вояки. В его командирском голосе чувствовалась присущая ему обычно уверенность и прямота. Виктор Васильевич Грачев начал зачитывать замечания по предыдущим этапам ЛКИ и докладывать, что по каждому из них сделано. При необходимости поднимались ответственные специалисты, от главных конструкторов до инженеров, которые чаще всего доказывали, что на текущий момент все у них настолько хорошо, что лучше и быть не может. А если там что-то не так, то они здесь ни при чем. Им оппонировали военпреды и офицеры Матренина, которые тоже умели влезать в любую дырку и видеть все по-своему. Иногда споры возникали между двумя предприятиями, если всплывала проблема на уровне стыковки двух систем – одни обычно чем-то задерживали других. Когда словесная перепалка переходила едва не в базарную ругань и для большинства присутствующих начинала теряться сама суть спора, поднимался Янгель. Приглаживая рукой ежик своих слегка порыжевших волос, он мягким жестом призывал зал к спокойствию и вниманию. Воцарялась тишина, в которой Михаил Кузьмич, задав два-три вопроса ответственным лицам, спокойно, с доскональным знанием технической стороны проблемы раскладывал все по полочкам, доказывая с точки зрения общего дела правоту одних и беспочвенность суждений других. Тем, за кем числились грехи, предлагались приемлемые сроки для их устранения. Все спорщики остывали, и возражения, если теперь они и были, звучали только для самоуспокоения: − Маловато дней даете, Михаил Кузьмич. − Кроме дней есть еще и ночи, – сдержанно отвечал Янгель. – Придется попотеть. Иного выхода у нас нет. Звоните во все колокола, вызывайте помощь, если необходимо. Я поддержу. Авторитет его был непререкаем. Любому письму или телеграмме за его подписью, любому звонку от его имени в смежных организациях была гарантирована, «зеленая улица». В перерыве он курил вместе со всеми на лестничной площадке. К нему подходили, просили прикурить, между делом завязывался доверительный разговор. Вокруг него группировалась кучка из дымящей сигаретами публики. Взгляд его был мягким и доброжелательным, и тем, кто не был вхож в эту компанию курильщиков, становилось даже чуточку обидно, что не для их ушей эти интересные, судя по всему, разговоры. *** …Стоместный самолет Ил-18 был загружен, что называется, под завязку. С нами летели Михаил Кузьмич, генерал Григорьев и еще кое-кто из руководителей московских и ленинградских фирм. Они разместились в меньшем, заднем салоне самолета. Для промежуточной заправки нашего самолета был определен аэропорт города Куйбышева. Видимо, Уральск для самолетов такого класса не подходил. Полет проходил нормально, но при посадке в Куйбышеве у нашего самолета сломалось шасси. Пилоты объявили, что поломка серьезная, и самолет дальше лететь не может. Нам пришлось покинуть самолет и зайти в здание аэропорта, чтобы согреться. Все-таки это уже не Средняя Азия, снег почти по колено, а наши теплые куртки, которые сейчас были бы очень кстати, пришлось сдать перед вылетом. Морозец ощущался приличный, и демисезонные пальтишки нас не спасали. В полной неопределенности мы толкались в довольно переполненном и без нас зале ожидания, и каждый про себя прокручивал в своей голове одну и ту же задачу: до новогоднего стола с елкой, домашним уютом, женой и детьми остаются сутки и тысяча с лишним километром пути. И спрашивается: как совместить одно с другим? Встреча же Нового года где-либо вне дома и семьи пахнет каким-то нехорошим предзнаменованием на весь год. Это понимает любой человек, не верящий даже ни в какие приметы. Поездом уже не успеть, а у самолетных касс такая давка, что становится тоскливо. Надвигалась ночь. В пассажирском зале ни одного свободного места. Михаил Кузьмич и генерал Григорьев прошли в ресторан. Кто-то из наших, потолкавшись у справочного бюро и возле касс, пришел с невеселой новостью, что билеты на Днепр есть только на второе января. Минут через десять из ресторана вышел Михаил Кузьмич с записной книжкой в руках и подошел к ребятам из первого комплекса, которые стояли возле кабинок с городскими телефонами-автоматами: − Будьте добры, свяжите меня вот с этим человеком, − Янгель подчеркнул ручкой телефон и фамилию. Пока записывали номер, кто-то из присутствующих спросил у него: − Михаил Кузьмич, как же нам быть? − Не волнуйтесь, Новый год встретите дома, − ответил он, взявшись за ручку ресторанной двери. Минут через десять связь была установлена, и ребята позвали Янгеля. Он зашел в кабинку автомата, а один из вышедших вместе с ним помощников передал его распоряжение всем идти в гостиницу и спокойно устраиваться на ночлег. При необходимости всех найдут и известят о дальнейших действиях. Пожалуй, самое толковое решение в сложившейся ситуации. Вместе со всеми желающими комфортно отдохнуть я пошел в аэропортовскую гостиницу, находившуюся рядом. Через полчаса я уже спал на чистой постели сном праведника, отрешившись от всех неприятных переживаний. В три часа ночи нас разбудили и велели собираться. Из Киева прислали за нами три самолета Ил-14, которые в течение ближайшего часа один за одним взлетят и доставят нас домой. В первый самолет я не попал. Он взял женщин и особо нетерпеливых. − Второй не взлетит, – бросил кто-то мрачную шутку. Я не был суеверным и сел во второй. Он взлетел и через несколько часов благополучно приземлился в Днепропетровском аэропорту, а еще полчаса спустя я выходил из нашего служебного автобуса возле своего дома на проспекте Кирова. - - -…В конце октября 1971 года мне предстояло выехать в командировку в один из городов России. Потратив много времени на какие-то хождения по отделам и на работу с документами, я только во второй половине дня сумел вырваться, чтобы получить командировочные и бежать домой собираться на вечерний поезд. В вестибюле восемьдесят восьмого корпуса резанула по глазам черная рамка только что приколотого к доске объявлений некролога. Еще до того, как я пробрался через окружившую его небольшую толпу, чтобы узнать, по ком звонит колокол, до ушей долетело короткое «Кузьмич». Да что это они, очумели? Как это возможно? Он ведь еще совсем не старый… Нет, никто не очумел. Это был он. Знакомое лицо в траурной рамке, слева и справа – две даты, словно две капли воды – 25 октября. Между ними – ровно шестьдесят лет. Снова роковое совпадение?.. …В вагоне поезда шла обычная пассажирская жизнь, мои попутчики болтали на разные темы, резали мелкими кружочками колбасу, стучали вареными яйцами по металлическому углу столика, брали у проводницы целую батарею стаканов с чаем и приглашали к столу меня, а я не мог никак отвлечься от этих двух дат, между которыми – жизнь. Короткая и в то же время насыщенная до предела, требующая порой нечеловеческих напряжений, пренебрежения привычными бытовыми условиями, оторванности от семьи… «Сердце… пятый инфаркт…» – эти слова, произнесенные вполголоса какой-то женщиной, я тоже услышал там, в вестибюле. Я благодарил своих спутников за все их приглашения и попросил только не выключать радио после отхода ко сну. В одиннадцатичасовых последних известиях был зачитан официальный правительственный некролог. Трагическая интонация в голосе диктора разбудила дремавшего на нижней полке лысого коренастого мужика в голубой пижаме и заставила его зашевелиться: − Кто-то умер, что ли? − Да… Янгель. − Не знаю такого. Что там о нем говорят? − Дважды герой, лауреат, депутат… − Это все фигня. А поконкретнее? − Академик… − А, ученый… Учение свет, а ученых тьма. Так, что ли, Райкин говорил? − Неученых тьма, он говорил… − А-а… − зевнул мужчина. – Ученых тоже. − Понимаете, он не из тех, что… тьма… − Не из тех, говоришь?.. Не знаю, не знаю… Хотя допускаю… − Я знаю… Мне захотелось рассказать ему хотя бы кое-что из того, что мне было известно. Но, во-первых, обет молчания сидел во мне прочно и знал свое дело независимо от моих желаний, а, во-вторых… Во-вторых, сосед мой уже повернулся ко мне спиной и захрапел… …В смежной организации, куда я приехал, люди рассматривали свежую газету. − Вот ведь как бывает… Словно кто-то безукоризненно рассчитал траекторию жизни, – задумчиво произнесла стоявшая у кульмана элегантная женщина с очками, повисшими на груди на цепочке. − И все же уходить из нее в день юбилея – это нелепость, − добавил руководитель подразделения, заглядывая в газету через спины сотрудников. − Во всяком случае, я бы себе лично такого не пожелал. − Думаю, что вас лично Господь-бог услышит, Александр Лазаревич. Это судьба, которой он жалует не каждого. − А вы у него доверенным лицом подрабатываете? Ну что ж, спасибо за ваши хлопоты о моей судьбе. Тогда уж будьте добры, объясните, что есть, по-вашему, эта самая судьба? − Предначертанность, Александр Лазаревич. Это то, что никаким конем не объедешь. Оно твое. И кощунствовать-то вроде бы незачем. − Пардон, мадам… – Александр Лазаревич прищурился, словно вглядывался в тайные глубины материи. – И что же конкретно это мое, Виолетта Аркадьевна? Что человеку дано объехать, а чего нет? Вы ведь не можете заглянуть в эту божью книгу и хоть что-то вполне достоверное поведать нам, грешным, до того. − Ну, не знаю,… Может быть, и могу, – возразила женщина, переглянувшись со стоящей рядом сотрудницей. − Ну, скажем, то, что завтра взойдет солнышко, я знаю и без вас. Я всего лишь о том, что все эти ваши кудрявые и не до конца осмысленные понятия в данном случае ни о чем абсолютно не говорят. Не проще ли назвать это по-другому? Делом жизни, например. Делом, которое ведет человека по жизни, как и он его. А все остальное – теория вероятностей. − Вы как будто техотчет составляете, Александр Лазаревич. Что ж, возможно… − задумчиво ответила Виолетта Аркадьевна. Затем, надев очки и взявшись за ручку пантографа, добавила вслед уходящему начальнику: − Возможно, если вам так уж проще. И взглянула на меня заговорщически, ожидая, видимо, каких-то слов одобрения. Я кивнул, но никаких слов не находил – все слова сейчас казались мелкими, ненужными, они ускользали и таяли, словно вода в песке. Из книги «Прочнисты ГКБ «Южное». Воспоминания. Творчество», * * *
Виктор Андреевич ЛАЗАРЕВ, К ИСТОРИИ ОДНОГО СОВЕЩАНИЯ В конце 1969 года − времени начала разработки ракеты Р-36М − Михаил Кузьмич провел совещание со своими заместителями. На совещание также были приглашены начальник отдела надежности С. Н. Конюхов и автор этих воспоминаний. Совещание проводилось неожиданно, без подготовки. Предстояло обсудить проблему планирования летно-конструкторских испытаний без привязки к конкретному ракетному комплексу. Почему пригласили представителей отдела надежности? И тем более предоставили возможность выступить первыми с информацией по данным анализа результатов пусков на начальном этапе летных испытаний ряда наших ракет (Р-16, Р-36, 63С1, РТ-20П) и ракет США («Атлас», «Титан», «Минитмэн»). К этому времени отдел надежности, участвуя в проектировании и летных испытаниях ракеты РТ-20П с подвижным грунтовым стартом, одну из причин частых аварий этой ракеты видел в ошибочности ряда положений принятой методологии подготовки и проведения летных испытаний, особенно на начальном их этапе. Естественно, отдел подавал соответствующие «сигналы». Так, в одной из докладных записок предлагалось летные испытания начинать с отработки старта, используя натурный макет проектируемой ракеты. Но вернемся к ходу совещания. Рассматриваемая проблема – планирование летно-конструкторских испытаний – весьма широкая; участники обсуждения подготовлены и вооружены информацией в различной степени; каждый из них вел свою тему (двигатель, система управления, прочность, баллистика и т.п.) и по результатам своих работ выпускал заключение о готовности к испытаниям. В памяти сохранились три выступления – П. И. Никитина, Ю. А. Сметанина, В. С. Будника. Все они были посвящены решаемым в ходе испытаний конкретным задачам. Заканчивая совещание, Михаил Кузьмич не высказал своего мнения, а подвел его итог словами: «Обсуждение было полезным». Такой финал совещания для меня оказался неожиданным. Но вернемся к реалиям того времени. Как известно, на Совете Обороны в августе 1969 года Михаил Кузьмич предложил радикальное решение по модернизации комплекса с ракетой Р-36 для условий гарантированного ответного удара после ядерного воздействия: шахтные пусковые установки высокой защищенности и минометный старт. Учитывая сомнения и возражения «высоких» оппонентов по такому решению, а также отсутствие полной поддержки внутри собственного предприятия, можно утверждать, что Михаил Кузьмич искал план действий, как практически реализовать идею минометного старта Р-36М и кому поручить его создание. Все работы по созданию комплекса ракеты Р-36М были под угрозой срыва. М. К. Янгелю со всем этим ракетным комплексом необходимо было буквально пройти через «игольное ушко». Обходных путей не существовало. Это совещание позволило Янгелю выработать необходимый подход к плану экспериментальной отработки минометного старта. Уже через три месяца после совещания был назначен новый начальник проектного отдела стартовых комплексов. Им стал тридцатитрехлетний С. Н. Конюхов (в апреле 1970 г.). А отдел надежности стал одним из подразделений этого отдела. Буквально с первых дней назначения новым начальником отдела были развернуты практические работы по этапам экспериментальной отработки минометного старта, которые получили определение – бросковые испытания. Темп работ энергичным С. Н. Конюховым был задан коллективу отдела предельно возможным. В отдельные дни необходимо было отвечать на 60 вопросов в час (это зафиксировано мною однажды, когда «допекли» звонками по телефону). Вскоре были подготовлены необходимые исходные данные по макету ракеты, разработан и утвержден план экспериментальной отработки минометного старта, включающий четыре этапа бросковых испытаний. Здесь уместно отметить удачный выбор Михаила Кузьмича кандидатуры С. Н. Конюхова, который буквально «с ходу» придал проектному отделу необходимый творческий импульс для решения одной из сложнейших технических задач. В итоге бросковые испытания макета ракеты Р-36М позволили поэтапно выявить основные конструктивные недостатки систем минометного старта, провести необходимые доработки. Реализуемость минометного старта была подтверждена 22 октября 1971 года (еще при жизни М. К. Янгеля) на заключительном этапе бросковых испытаний экспериментальным пуском макета ракеты Р-36М. Это был пуск полноразмерного макета тяжелой межконтинентальной жидкостной ракеты из транспортно-пускового контейнера. Пуск, возвестивший рождение нового, революционного способа старта – минометного, на создание которого много сил и здоровья положил Михаил Кузьмич. Время подтвердило правильность его выбора. В дальнейшем все боевые ракетные комплексы разработки КБ «Южное» создавались по минометной схеме, обеспечившей существенное повышение защищенности шахтных сооружений и удешевление их строительства, а также возможность полной заводской сборки ракет. Минометный старт сделал возможным создание уникального боевого железнодорожного комплекса – одной из вершин творчества нашего предприятия. Май 2006 г. * * *
Юрий Михайлович МУЛЯР, УРОКИ МИХАИЛА КУЗЬМИЧА Случилось так, что в первые годы своей трудовой деятельности в конструкторском бюро, будучи молодым инженером, я оказался в центре событий при работе «высокой» комиссии, в которой непосредственно участвовал М. К. Янгель. В начале 60-х годов был создан ракетный комплекс, оснащенный головной частью с самым тяжелым (и самым мощным) полезным грузом, и принят на вооружение. Во время контрольного пуска от партии (притом на максимальную дальность) обнаружилось, что головная часть не выполнила свое функциональное назначение: не прошла атмосферный участок нисходящей траектории. Чтобы установить причину разрушения ГЧ, в экстренном порядке была создана межведомственная комиссия в составе Главных конструкторов, директора ЦНИИмаша, генералов от Министерства обороны и от Министерства среднего машиностроения (МСМ). Поскольку ситуация была весьма неординарная, о результатах работы комиссии регулярно докладывали Д. Ф. Устинову. На карту было поставлено качество работы нашего ОКБ и КБ смежной организации от МСМ. Главное внимание при экспертизе уделялось вопросам прочности и тепловым процессам. Как непосредственному исполнителю в проведении прочностных расчетов этого изделия и организации статических испытаний мне довелось воочию наблюдать за ходом работы комиссии, слышать детали обсуждения и дискуссий руководителей высокого ранга: М. К. Янгеля, В. С. Будника, Ю. А. Мозжорина, А. В. Кармишина, С. Г. Кочарянца, Е. А. Негина, а также их заместителей и других ведущих специалистов. По результатам экспертизы были обнаружены недостатки в проектировании и отработке ГЧ как со стороны нашего КБ, так и в организациисмежнике МСМ. В то время были трудности в рабочих контактах с этим смежником. Нам задавали любые вопросы, и мы обязаны были давать исчерпывающие ответы на них. В то же время на вопросы с нашей стороны – в части прочности конструкции полезного груза – следовали отказы со ссылками на секретность. Чтобы внести полную ясность в спорных вопросах, Михаил Кузьмич поддержал предложение, которое основательно изменило в дальнейшем методику экспериментальной отработки прочности головных частей. Впервые было принято решение о проведении межведомственных статических испытаний корпуса ГЧ в сборе со спецгрузом смежника. Разработанная по указанию Михаила Кузьмича нестандартная система измерений позволила в процессе испытаний зарегистрировать во времени последовательность разрушения узла крепления спецгруза в корпусе головной части. К глубокому огорчению нашего смежника было установлено преждевременное разрушение фланцевой части их узла. Так был развеян миф о «непогрешимости» в работе сверхсекретной организации. Дальнейшая работа продолжалась в сложной и напряженной обстановке. Об этом можно судить по следующему эпизоду: во время очередного перерыва в заседании комиссии Главный конструктор боевого заряда С. Г. Кочарянц отчитывал в кабинете Янгеля военного генерала за его якобы неправильные действия. При этом (невзирая на мое присутствие как третьего лишнего) использовались самые крепкие русские слова с кавказским акцентом. Ответом на все это слышались только слова: «Самвел! Не горячись, успокойся…». Выдержке молодого генерала можно было позавидовать. А мне впервые представилась возможность познать и сравнить личный характер двух руководителей солидных фирм: М. К. Янгеля и С. Г. Кочарянца. Первый отличался выдержкой и корректностью в общении, второй в экстремальной ситуации был вспыльчив и не стеснялся в выражениях. Однако и тот, и другой были доступны для работников любого ранга, принимали мудрые и дальновидные решения, пользовались большим уважением и авторитетом на всех уровнях. Оставили глубокое впечатление в высшей степени добропорядочность и лояльное отношение Михаила Кузьмича к своим подчиненным. Пример тому – эпизод, связанный с защитой докторской диссертации Л. В. Андреева, в то время начальника сектора прочности головных частей. По результатам работы комиссии были обнаружены «проколы» и с нашей стороны. В частности, не была учтена должным образом негерметичность теплозащиты. Этот факт был обнаружен уже после окончания работы комиссии при дополнительных специальных испытаниях путем нагружения корпуса ГЧ сжатым воздухом. До этого испытания воздухом не проводились ввиду отсутствия специальных боксов. По итогам неудовлетворительных результатов испытаний каждый руководитель: от проектантов – В. С. Будник и В. М. Ковтуненко, от материаловедов – М. А. Ахметшин, от прочнистов – П. И. Никитин − получил выговор по линии министерства. Начальник сектора Л. В. Андреев был временно понижен в должности до рядового инженера, а его докторская диссертация после официальной защиты была отозвана из ВАКа. Впоследствии, в связи с ухудшением состояния здоровья, Михаил Кузьмич оказался в московской больнице. Льву Вячеславовичу удалось навестить Янгеля и рассказать ему о состоянии своих личных дел. Михаил Кузьмич с пониманием отнесся к его просьбе. После личного вмешательства Главного конструктора удалось изменить положение: через некоторое время Л. В. Андрееву присвоили ученую степень доктора наук. Участие в работе высокой комиссии послужило для нашего коллектива хорошей школой. Каждый из нас прочувствовал на себе меру ответственности за принимаемые конструкторские решения по результатам проведенных расчетов. При этом важным фактором в реализации нестандартных подходов в научно-технических разработках был общепринятый непререкаемый авторитет М. К. Янгеля как талантливого конструктора, Человека с большой буквы. Апрель 2006 г. * * *
Владимир Андреевич ПИРОГ, ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ, Очень быстро, почти бегом, иду на работу и, когда понял, что успеваю, сбавил ход. В 8.29 подхожу к корпусу 14, где мы тогда работали, и замечаю, что непривычно пустынно. И тут ко мне обращается мужчина в кепке и пальто (дело было осенью) и происходит следующий диалог: «Почему Вы опаздываете на работу?». «Я не опаздываю. Еще нет половины девятого». «А где Вы работаете?». «В отделе 34». «А это где, у Никитина?». «Да». «Но Вам же надо еще раздеться и подняться на четвертый этаж. Сколько времени на это уйдет?». Потом, рассказывая об этом Саше Иванову, я предположил: «Наверное, это был Купчинский». А Саша и говорит: «Да нет, скорее всего, это был Михаил Кузьмич. Говорят, что он сегодня первый день после командировки». Вот так состоялась моя первая встреча с М. К. Янгелем. Наверное, надо рассказать и о второй встрече. В 1961 году у М. К. Янгеля проходило совещание, на котором обсуждалась работа гиростабилизированной платформы, не помню точно какого изделия. Один из докладов сделал В. А. Серенко, а поскольку тема доклада относилась к моей задаче, я готовил материалы: графики, таблицы и т. п. Мы с Виктором Александровичем волновались, так как вопрос был сложным, в некоторых местах нам самим не ясным, а уровень совещания высокий. На нем присутствовал также Главный конструктор гироприборов Виктор Иванович Кузнецов, впоследствии дважды Герой Социалистического Труда. После совещания, когда мы снимали со стенда наши плакаты, к нам подошел Михаил Кузьмич и сказал Виктору Александровичу: «Мне ваш доклад не совсем понравился». На мой взгляд, Виктор Александрович в докладе умело обошел «подводные камни» и удачно ответил на все вопросы. Поэтому я не удержался и сказал: «А мне доклад понравился. Все, что надо, было сказано». Михаил Кузьмич очень спокойно указал на недостатки, его замечания мы обсудили. К обсуждению присоединился Виктор Иванович. Я чувствовал себя равноправным собеседником, несмотря на то, что не проработал еще и года, а М. К. Янгель и В. И. Кузнецов были выдающимися людьми. Так я на себе почувствовал одну из обаятельных черт Михаила Кузьмича. Он располагал людей к беседе, к свободному выражению мыслей, идей, планов, не давил своим авторитетом. На первом пуске ракеты 8К67 мы впервые столкнулись с продольными автоколебаниями. Было не ясно, можно ли пускать изделие № 2. Доклады на госкомиссии готовились делать Н. Н. Жуков, в то время начальник отдела телеизмерений, и В. А. Серенко, причем их мнения не совпадали в главном. Однако доклад сделал М. К. Янгель по тем материалам, которые мы подготовили. Несмотря на то, что вопрос был новым, узким, специальным, а времени, чтобы разобраться в нем, у Главного конструктора не было, Михаил Кузьмич настолько ясно и четко изложил проблему, что ни у специалистов, ни у высокой государственной комиссии не возникло сомнений по поводу предлагаемых решений. Последующие пуски подтвердили их правильность. Октябрь 1981 г. * * *
Александр Иванович БУШУЕВ, В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ В 1964-1965 гг. я был председателем жилищно-бытовой комиссии объединенного профбюро ОКБ-586. Однажды райисполком надолго затянул подписание списков на вселение. П. М. Колос (заместитель начальника ОКБ по общим вопросам) был в командировке, и я обратился за помощью к Михаилу Кузьмичу. Внимательно рассмотрев принесенные списки, задав с десяток вопросов, он спросил, кто конкретно в райисполкоме задерживает подписание. Затем стал сам (секретаря уже не было) звонить председателю райисполкома. Прошло минут десять, пока он дозвонился… На следующий день списки были подписаны до 12 часов дня. Во второй половине дня Михаил Кузьмич сам поинтересовался у меня состоянием дел со списками. М. К. Янгель много и оперативно помогал объединенному профбюро по самым разнообразным вопросам. Так, оперативно был решен вопрос о предоставлении льгот работникам отдела В. Я. Соловьева («сотка»). И хотя главный бухгалтер КБ категорически возражал, уверяя, что это противозаконно, Михаил Кузьмич всю ответственность взял на себя. Был случай, когда М. К. Янгель подписал приказ об увольнении работника без согласования с объединенным профбюро. После этого ему была направлена выписка о неправильном увольнении. Михаил Кузьмич, приняв меня, внимательно выслушал и отдал распоряжение отменить свой приказ. Как-то поздно вечером, после рассмотрения общественных вопросов Михаил Кузьмич поинтересовался моей биографией. Узнав, что я родом из Сибири, он оживился, засыпал меня вопросами. Интересовался всем: давно ли я там был, как живут люди, много ли грибов, ягод, хороша ли охота, как ловится рыба и т. д. Затем немного помолчал и задумчиво сказал: «Хороший край! И люди хорошие, прямые, душевные. Хочу повидать своих. Хочется побродить по лесу, отдохнуть, подышать воздухом тех мест». Беседа была прервана телефонным звонком. Михаил Кузьмич взял трубку. Переговорил. Потом тихонько положил трубку, посмотрел на меня и вдруг спрашивает: «Как твое мнение о назначении Губанова главным инженером? Я думаю, что из него получится хороший руководитель, я не ошибаюсь? Я вот смотрю, он, как секретарь парткома, дело поставил хорошо, пользуется авторитетом, самостоятелен в суждениях, принципиален. Возраст подходящий, есть перспектива. Ну а каково твое мнение?». Михаилу Кузьмичу важно было знать, как будет настроена общественность, есть ли какие замечания, пожелания. Он не только советовал, но и сам любил советоваться, делиться с другими своими мыслями, умел слушать, воспитывать все хорошее, анализировать, сопоставлять. Поэтому Янгель всегда находил правильное решение. Май 1991 г. * * *
Лидия Павловна МЫШКОВСКАЯ, Я БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ Имя Михаила Кузьмича я слышала задолго до поступления на работу. Я заранее благоговела перед ним и немного трусила. В день, когда, наконец, я вошла в здание КБ, Михаил Кузьмич уходил в отпуск, и на беседу со мной у него оставалось 10–15 минут, так как в 16.00 было назначено заседание парткома завода. Я очень робко вошла в кабинет. Михаил Кузьмич встал из-за стола, подошел ко мне. Посмотрел на меня тепло и приветливо, заговорил ровным мягким голосом. И вот эта простота, уважительное отношение к человеку, к женщине, сняли с меня всю робость. Умный, проницательный, галантный – таким предстал передо мной Михаил Кузьмич. Я жалела, что так быстро закончилась наша беседа. Он спешил, но так, чтобы не обидеть своего собеседника (так умел только он!). Позже я поняла, что таким он был по отношению ко всем людям, ко всем сотрудникам. Во время приема по личным вопросам он очень внимательно выслушивал каждого, и было искренним его огорчение, если он не в силах был помочь. У Михаила Кузьмича была интересная привычка – разговаривать с самим собой, думать вслух. Часто, принеся ему в кабинет стакан чаю, я заставала его «марширующим» по кабинету и говорящим вслух. Я ставила стакан на стол и потихонечку, чтобы не нарушать ход его мыслей, старалась выйти. Но Михаил Кузьмич останавливал меня у дверей и говорил, что я ему не мешаю, а наоборот, ему удобнее, если есть аудитория. Он ходил и говорил долго, подходил к доске, рисовал какие-то иероглифы, обращался ко мне, как будто хотел, чтобы я подсказала ему что-то неразрешимое. Видно, разговор с самим собой вслух ему помогал. Он садился в кресло, брал карандаш и писал, писал, не обращая ни на что внимания. Он не замечал, когда я выходила из кабинета. Он был поглощен своими мыслями, он был счастлив. В последнее время болезнь сделала его раздражительным. Это его угнетало, и он просто страдал от находящего на него раздражения. Помню такой случай. В конце дня инженер К. попросил Михаила Кузьмича принять его. Михаил Кузьмич назначил встречу на следующий день на 9 часов утра. Товарищ К. пришел пораньше и ожидал в приемной. Появился Михаил Кузьмич. Лицо его сразу сделалось суровым, как только он увидел в приемной посетителя. Он сразу повысил на меня голос, даже накричал, зачем это я разрешаю людям терять время, что товарищ не должен сидеть и ждать, он должен быть на рабочем месте и т. д. Эти слова относились, конечно, к нам обоим. Товарищ К. это понял, смутился. Но Михаил Кузьмич сказал, чтобы он заходил в кабинет. Через некоторое время К. вышел из кабинета взволнованный, но довольный. Последовал звонок. Меня вызывал Михаил Кузьмич в кабинет. Мне было обидно за такой «разгон». Тогда Михаил Кузьмич начал спокойным голосом обвинять себя, что не сдержался, нехорошо себя повел перед товарищем и в заключение сказал: «Но ведь это Вы виноваты, Лидия Павловна, что заставили человека сидеть в приемной, вот Вы и извинитесь перед ним». Я была рада принять вину на себя, так как видела, как тяжело ложится болезнь на плечи этого замечательного человека. В больнице он, несмотря на тяжелое состояние, тосковал о работе, о коллективе. В одном из писем он мне писал: «Вот уже неделя, как я нахожусь в больнице, пока идет тщательное обследование и кое-какое «стандартное» лечение. Мое состояние хуже, чем я предполагал, основное – истощение нервной системы». И тут же: «Если я кому-то буду очень нужен, меня можно навестить. Но накануне нужно позвонить». Находясь потом на отдыхе в санатории, он думал о работе, ему тосклив этот отдых: «Вот и подходит к концу мое пребывание в санатории, чувствую себя хорошо, отдохнул, снизился сахар в крови, наладился сон. К сожалению, остаются еще головные боли, но надеюсь, что и с этим справятся врачи. Мне уже очень хочется работать, а это хороший признак. Передавайте привет товарищам по работе. М. К.». В свой юбилей я собрала дома друзей. Пришел меня поздравить и Михаил Кузьмич. Гостями были работники нашего КБ, а поэтому Михаил Кузьмич многих из них знал, и они его знали. Пели, танцевали, никого не стесняло присутствие такого знаменитого гостя, он был весел, прост, общителен. Потом он объявил, что споет одну сибирскую песню. Жаль, я не помню ее слов. Сел Михаил Кузьмич за стол, подпер щеку рукой и затянул протяжную сибирскую песню. И слова этой песни, и манера исполнения раскрыли широкую сибирскую натуру человека: перед нами был другой Михаил Кузьмич – мужик-сибиряк. Со своей грустью (песня была грустной), со своей широкой натурой он внес кусочек Сибири. Мы все слушали, для нас это было неожиданностью, и грустно было от пения, и интересно, что такой человек с таким большим чувством пел песни своего прошлого и, наверное, вспоминал сибирскую деревню, где прошло его детство. Я всегда восхищалась его умением держать себя просто и независимо с людьми разного положения. Ему чужды были лесть и подхалимство. Он был всегда аккуратен, опрятен в одежде. Помню, проходила аттестация. Один инженер пришел небритым, без галстука, с небрежно расстегнутым воротником. Михаил Кузьмич попросил его выйти: он расценил эту небрежность как неуважение к окружающим, к такой церемонии, как аттестация. Он с возмущением говорил мне об этом случае. Михаил Кузьмич не терпел малограмотных инженеров (в смысле орфографии). Найдя ошибку в начале письма, он не мог читать дальше, всегда очень ворчал по адресу «писаки» и возвращал документы для доработки. Я благодарна судьбе за то, что мне довелось пятнадцать лет работать рядом с таким замечательным человеком, большим руководителем и отзывчивым товарищем. Это лучшие годы в моей жизни. Апрель 1974 г. * * *
Елена Матвеевна УШАКОВА, ДОМ МИХАИЛА КУЗЬМИЧА – ГОСТИНИЦА «ЮЖНАЯ» С Михаилом Кузьмичом я познакомилась в 1951 году, когда он вместе с Сергеем Павловичем Королевым приезжал к нам на завод в командировку. Жили они сначала в одной гостинице, а затем переехали в другую. Много их тогда приезжало. Генералы, адмиралы, маршалы, Главные конструкторы, министры и их заместители. Все они важные такие были, культурные, приветливые, никто и словом не обидит. Я им готовила обеды, только больше так получалось, что ели они уже поздно вечером, в 10-11 часов, а то и позже. Приходили они с работы усталые, иногда спорили, что-то обсуждали, но чаще ложились спать, неизменно при этом приговаривая: «Матвеевна, разбуди пораньше, часиков в пять – завтра опять запарка будет». В 1954 году Михаил Кузьмич приехал к нам уже не в командировку, а работать. Поселился он в гостинице. Так он там и прожил до 1966 года – все двенадцать лет. Жил он на третьем этаже, в 37-м номере. Я за ним смотрела, как за маленьким ребенком, – таким родным он для меня был. Уже год, как он умер, а мне все не верится, не могу забыть его, опустело все без него… Опустело… Не могу я забыть его, не могу, все вспоминаю – и плачу. Приходил он с работы поздно, я ему и бульончик, и отбивную приготовлю, и пирожков напеку, а он, видно, так устанет, что и есть ему не хочется. Заставлю его, он поест – и сразу в постель. А когда у него на работе все хорошо шло, всегда говорил: «Матвеевна, что ты меня кормишь так, что я толстею и толстею, скоро и в дверь не пролезу». Это он только говорил так, а на самом деле – всегда стройным был. К нему часто вечером товарищи по работе заходили, а особенно он любил, когда к нему Л. А. Берлин приходил. Про него он говорил: «Лев Абрамович – самый лучший конструктор». У Михаила Кузьмича дома хранилась его фотография. К Михаилу Кузьмичу по работе и домой приходили. Одних он на завод устраивал, другим с жильем помогал. Пришла к нему как-то одна женщина с двумя детьми. – Товарищ Янгель дома? – Дома, − отвечаю. Не успела я ей объяснить, что он только что пришел с работы, устал, а Михаил Кузьмич уже выходит из комнаты и приглашает: – Заходите, заходите. Женщина сразу расплакалась, стала рассказывать, что они вчетвером живут в комнате 14 квадратных метров, ко всем ходила, все только обещают, а помощи никакой. Михаил Кузьмич позвал меня и попросил угостить ребятишек шоколадом и печеньем, а потом спрашивает эту женщину: – А Вы где работаете?… – На швейной фабрике. – А муж Ваш где работает? – У Вас слесарем. – Передайте ему, пусть завтра зайдет ко мне. Жаль, я забыла фамилию этой женщины, помню только, что она еще приходила к нам с мужем, и они приглашали Михаила Кузьмича на новоселье. Он никогда никому ни в чем не отказывал. Добрым был Михаил Кузьмич. И внимательным. Как-то был он в Чехословакии и чего он только не привез нам оттуда: Виточке, крестнице его, туфельки белые и куклу большую, три пакета подарков разных Виточке, Вале и Саше – детям моих племянников. Он всех помнил, никогда не приезжал без подарков. И мне всегда что-то привозил. А ведь мы ему – не родственники. Когда мы жили в коттедже, то во дворе всегда играли ребятишки. Бывало, выйду, накричу на них, чтобы тише играли − Михаил Кузьмич отдыхает, а он ругает меня: «Матвеевна, ты что на ребят кричишь, это же хорошо, когда они шумят. Пусть играют». Он часто выходил к ним или приглашал в дом, расспрашивал, как учатся, что читают, кем бы хотели стать, угощал печеньем и конфетами. Любил он детей. И вспоминал свое детство в Сибири. Сибирь он любил и часто тосковал по родным местам. В такие минуты он обычно пел «По диким степям Забайкалья» или «Скажи, товарищ…». Он знал много песен, но особенно любимыми у него были «Под окном черемуха колышется», «Не брани меня, родная». В редкие дни, когда у него появлялось свободное время, он любил ездить на рыбалку. Иногда в выходные он просил меня: «Матвеевна, приготовь по-быстрому что-нибудь на завтрак, я на работу пойду». «Куда же Вы, Михаил Кузьмич, пойдете, сегодня – выходной день». «Это смотря для кого, Матвеевна, а мне нужно поработать. В тиши всегда лучше работается, никто не мешает». Михаил Кузьмич всегда относился к работе как к чему-то святому. Он о работе говорил, даже когда и на рыбалке был. А сколько он по командировкам ездил! На полигонах сидел по два-три месяца. Я ему говорю: «Михаил Кузьмич, поберегли бы Вы себя, что у Вас заместителей нет, пусть они ездят, а то все Вам надо?». Он только улыбается в ответ: «Ничего ты не понимаешь, Матвеевна». Понимать я, может, и не все понимала, а только знаю, что не берег он себя, не щадил сердце – все работал, работал, работал… Октябрь 1972 г. |
|