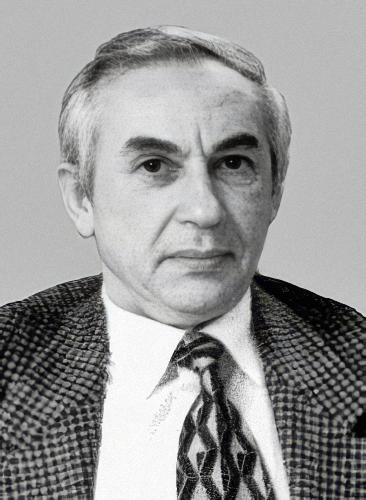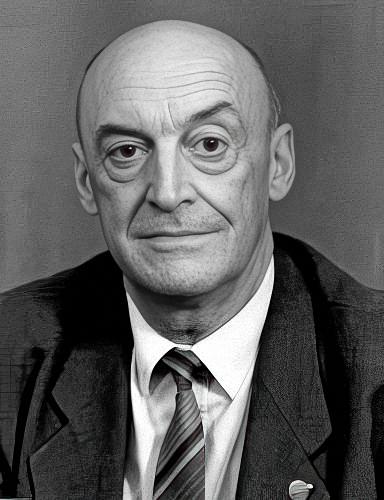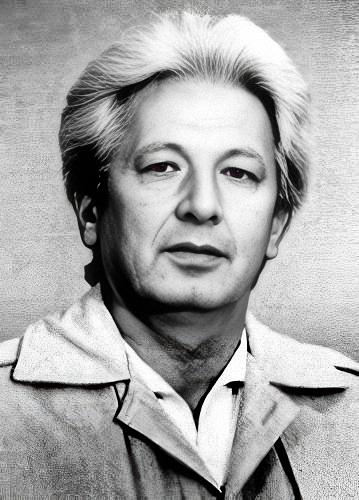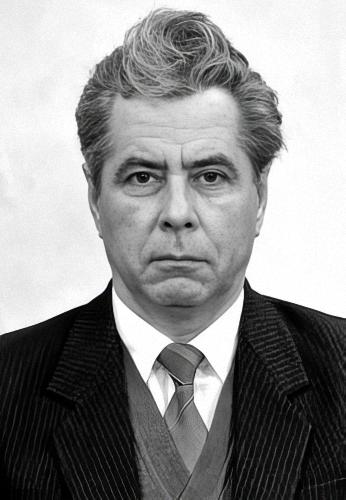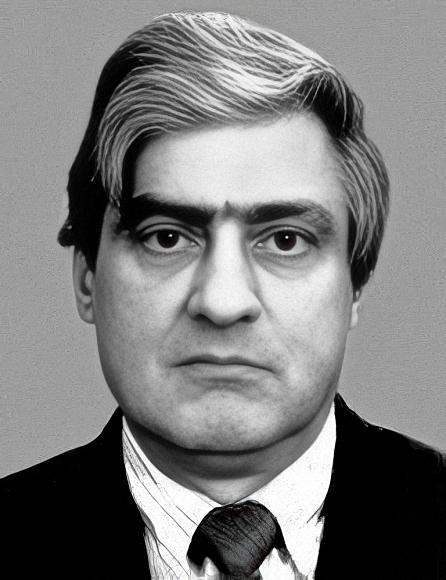|
|
|
|
|
|
|
|
|
Под общ.ред. А.В.Дегтярева
Днепропетровск 2011
Наш адрес: ruzhany@narod.ru |
|
На этой странице сайта:
* * *
Анатолий Иванович ШЕВЦОВ, РЕДКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЧУТЬЕ Михаил Кузьмич обладал редкой способностью видеть далеко вперед и предугадывать закономерности развития новой техники. Это была своего рода техническая интуиция. Его отличали также смелость и твердость в отстаивании технической линии КБ. В этом плане можно привести один характерный пример его работы. В 1965 году шла подготовка к защите у Заказчика эскизного проекта принципиально нового комплекса – РТ-20П, первого комплекса РВСН мобильного базирования (использовалось танковое шасси, а сама ракета 8К99 была комбинированной – первая ступень твердотопливная, вторая – жидкостная). На совещании у Михаила Кузьмича проектанты докладывали об особенностях комплекса, в том числе о возможных схемах его эксплуатации, по которым не было установившихся представлений. Были доложены и результаты сопоставлений предлагаемого комплекса с традиционными в плане оценки перспективности нового направления. Эти материалы были настолько новыми и принципиальными, что Михаил Кузьмич счел необходимым пригласить представителей отраслевого института, чтобы выслушать их мнение на совещании в ОКБ. Мнение представителей института было «обтекаемым»: «Мы – за, но не стоит противопоставлять… Это слишком категорично… Мы не рекомендуем представлять материалы по эффективности нового комплекса Заказчику». Ответ Михаила Кузьмича был бескомпромиссным: «Вы меня не убедили, считаю необходимым представить материалы КБ на защите проекта». В результате я, в ту пору молодой специалист, оказался включенным в состав бригады по защите эскизного проекта в Ракетных войсках. И вот – день защиты эскизного проекта на заседании Научно-технического комитета Заказчика. Михаил Кузьмич в докладе охарактеризовал комплекс, дал четкое обоснование его перспективности, соответствующую оценку необоснованно завышенным требованиям Заказчика, который выдвигал к самоходным пусковым установкам требования, аналогичные требованиям к тяжелым танкам. Далее началось обсуждение проекта, в ходе которого на редкость очевидно проявился ведомственный подход со стороны выступавших представителей Заказчика и непонимание перспектив развития техники. Из-за нетрадиционности комплекса и сложности его эксплуатации по сравнению с существующими все выступающие высказались против его дальнейшей разработки. В числе аргументов «против» были даже курьезные утверждения об отсутствии такого комплекса в существующей классификации: «Нет места» и все тут. А поскольку ракета комбинированная, то она, по мнению специалистов, непременно должна обладать отрицательными качествами как жидкостных, так и твердотопливных ракет. А тот аргумент, что именно такое решение обеспечивало снижение стартового веса до приемлемого для мобильной пусковой установки, просто игнорировался. И только твердая, бескомпромиссная позиция Михаила Кузьмича Янгеля и мудрость Главкома Ракетных войск маршала Николая Ивановича Крылова, который вопреки позиции всех своих служб поверил Главному конструктору и поддержал его, позволили завершить защиту с получением положительной оценки и разрешения на продолжение работ. Комплекс вышел на летные испытания и был показан на первомайском параде в Москве в 1967 году. Комплекс РТ-20П настолько опережал уровень ракетной техники того периода, что присутствовавшие на параде американские специалисты не смогли до конца разобраться в увиденном. Многие из них посчитали, что демонстрировалась ракета средней дальности и что для ее запуска необходима еще вспомогательная машина с пусковым столом. К сожалению, в последующем в результате проявления волюнтаризма высшего руководства отработка комплекса была прекращена, что нанесло существенный урон совершенствованию РВСН. Так, грунтовые мобильные комплексы, но уже разработки другого КБ, были приняты на вооружение только через 10 лет, а их технические характеристики существенно уступали комплексу РТ-20П. Большинство технических решений, впервые реализованных в ракете 8К99, получили свое воплощение в последующих разработках КБ «Южное» 70-х годов, а в США – только в 80-х годах на ракете МХ. Мобильное базирование как одно из направлений развития стратегических комплексов, начало которому было заложено темой РТ-20П, в конце концов получило всеобщее признание и воплощено как в комплексах подвижных грунтовых, так и в железнодорожных, к разработке которых в США так и не приступили. Февраль 1991 г. * * *
Вадим Николаевич ПАППО-КОРЫСТИН, МУДРЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ДОБРЫЙ НАСТАВНИК Мое заочное знакомство с Михаилом Кузьмичом состоялось задолго до личной встречи с ним. В 1955 году, когда я еще учился в университете, моя мать, работница отдела кадров завода, рассказала о новом Главном конструкторе, который буквально пленил кадровиков обаянием, добротой, улыбкой, спокойной неторопливостью, неизменным дружелюбием и благожелательностью. «Уж такой хороший Михаил Кузьмич, всегда первым поздоровается, улыбнется, расспросит о жизни, такой добрый!». И в моем представлении возникал почему-то обязательно латыш или эстонец (фамилия все-таки не русская) в соломенной шляпе, с круглым улыбающимся лицом, голубоглазый, весь какой-то мягкий и округлый. В 1957 году я был назначен инженером в группу Н. И. Сидельникова. Пожалуй, как и большинству молодых специалистов, мне казалось, что рост моей зарплаты идет недопустимо медленно, что я заслуживаю большего, поэтому, когда соглашающимся работать во вновь создаваемом отделе пообещали повышение зарплаты, я, хотя и не получал предложения о переходе, решил обратиться к Главному. Мое представление о внешнем облике Михаила Кузьмича мигом разрушилось. Из-за стола поднялся человек выше среднего роста, с продолговатым лицом и тронутым сединой бобриком волос. Он пожал мне руку, усадил в кресло, а сам, то присаживаясь, то вставая и прохаживаясь по кабинету, сладко затягиваясь сигаретой, стал задавать вопросы о причинах моего желания перейти в новый отдел. Запомнились его внимательные, добрые и одновременно грустные глаза, несколько тяжеловатый подбородок, крупная голова. «Небось, Дуплищев обещал златые горы?» – спрашивал Михаил Кузьмич. «Другим обещал, а мне даже и не предлагал, я сам решил перейти», − отвечаю. Остановившись передо мной, Михаил Кузьмич начал разъяснять мне, что создаваемый отдел – дело новое, безусловно нужное, но лаборатория, где я работаю, – сердцевина экспериментальных работ, что там очень нужны толковые «ребята» (потом мне часто приходилось слышать «мои ребята», «посижу с ребятами», «подскажу ребятам»). Я же продолжал бормотать, что в новом отделе мне будет интереснее, что отдача от меня будет больше и т. п. Михаил Кузьмич поднял трубку телефонного аппарата и произнес: «Караханян, у тебя работает молодой инженер Паппо-Корыстин?». Выслушав утвердительный ответ, вновь спрашивает: «Он хороший инженер?» Потом опять в трубку: «А если хороший, почему зарплату не повышаешь?… Что значит хороший, но не совсем хороший?… А если не совсем хороший, ты не будешь возражать против его перевода?… Категорически возражаешь? А почему зарплату не повышаешь?». Опустив трубку, Михаил Кузьмич обратился ко мне: «Продолжай работать на старом месте, мне думается, ты не будешь спорить со мной». Я не стал спорить. Работая ведущим конструктором, мне часто приходилось наблюдать Михаила Кузьмича за решением тех или иных технических, организационных или общественных вопросов. По сути, вся жизнь Главного – это ежечасное решение таких вопросов. Характерной чертой, а точнее, талантом Михаила Кузьмича было умение убедить сотрудника, смежника, превратить его в своего убежденного соратника. Именно убедить, а не принудить! Но бывали случаи, когда он умел принуждать, заставлять подчиниться власти и воле Главного конструктора. О двух таких случаях хочется рассказать. В конце 1961 – начале 1962 г. наше КБ вело проработку по новой теме. Янгель понимал, что разработка и отработка этой темы потребуют колоссальных усилий и от конструкторов, и от заводчан. Реальность осуществления этого замысла зависела, по его мнению, в немалой степени от передачи другим НИИ, КБ, заводам той тематики, которая только начала развиваться в стенах предприятия и завода, еще не закрепилась у нас, а существовала только в проектно-конструкторских проработках. Михаил Кузьмич собрал совещание, чтобы посоветоваться с «ребятами», послушать их мнение о целесообразности передачи некоторых изделий и объектов М. Ф. Решетневу и А. Г. Иосифьяну. Надо сказать, что в то время организация М. Ф. Решетнева была филиалом ОКБ С. П. Королева, сибиряки очень нуждались в настоящей самостоятельной работе и подарок в виде изделия и объектов был бы для них воистину царским. Институт, руководимый А. Г. Иосифьяном, был довольно устойчивым нашим смежником, имел необходимый потенциал для разработки и изготовления жизненно важных для объекта систем: ориентации, электродвигателей, преобразователей, системы магнитной разрядки и т. п. Забегая вперед, должен сказать, что Михаил Кузьмич еще до начала совещания принял решение о передаче и изделия, и объектов, причем решение твердое и бесповоротное, хотя он его не высказывал. Страсти на совещании разгорелись весьма бурные, особенно возражали В. С. Будник и В. М. Ковтуненко. Менее бурно, но тоже возражало явное большинство собравшихся. – Это золотая жила – связь и метеорология, ты же это прекрасно понимаешь, Михаил Кузьмич! – с горячностью, жестикулируя, кричал В. С. Будник (между прочим, только он называл Михаила Кузьмича на «ты»).– Это ведь работа и для КБ, и для завода на всю жизнь! Ты же это тоже понимаешь! Погода и связь постоянно нужны! Постоянно! Михаил Кузьмич спокойно выслушал всех, но, мне кажется, мысленно он был с новым изделием. Возможно, он видел каналы, реки, по которым изделие должно уйти с завода на огромной барже, мечтал о Луне. Кстати, на одном из совещаний по новому изделию Михаил Кузьмич, рассматривая глобус Луны, задумчиво произнес: «А если мы на нее не сядем?» Э. М. Кашанов тут же нашелся: «Если не сядем, Михаил Кузьмич, то обязательно ляжем!». А совещание тем временем подходило к концу, Михаил Кузьмич предоставил возможность высказываться всем и в заключение высказался сам. Решение его было твердым и не подлежащим дополнительному обсуждению: изделия передать М. Ф. Решетневу и А. Г. Иосифьяну, сохранив за предприятием головную роль на определенном этапе, а все силы КБ и завода сосредоточить на новой теме. Участники совещания разошлись довольно быстро, в кабинете Главного остались только В. С. Будник и В. М. Ковтуненко. Через несколько лет Вячеслав Михайлович, вспоминая эти дни, недовольно гудел: «Что он меня, словно мальчишку, отчитывал, когда остались втроем, мол, пока я Главный конструктор, я принимаю решения, а твое дело этим решениям подчиняться! Когда будешь Главным – тебе будет предоставлено такое право, а сейчас выполняй то, что принято Главным!» В конце апреля 1963 г., накануне майских праздников, М. К. Янгель собрал совет Главных конструкторов по разработке объекта «Метеор». О сложности обстановки, именно связанной с «Метеором», свидетельствует хотя бы то, что американская сторона выражала недовольство состоянием обмена спутниковой метеорологической информацией между СССР и США. Мол, Америка информацию предоставляет, а русские нет. Чтобы ускорить сроки создания такого нужного стране объекта, разрабатываемого предприятиями многих министерств, нужен был лидер, который бы, взвалив на себя огромную работу и взяв на ее выполнение самые сжатые сроки, сумел бы за собой увлечь остальных. Таким лидером стал Михаил Кузьмич. За ним были готовы последовать, но еще колебались, главные разработчики телевизионной, инфракрасной аппаратуры, телеметрических систем. Только моложавый, энергичный, со звездой Героя на груди В. А. Хрусталев без промедления присоединился к Михаилу Кузьмичу, согласившись с предлагаемыми сроками. А самым ярым оппонентом, как ни странно, стал заместитель А. Г. Иосифьяна начальник СКБ ВНИИЭМ М. Т. Геворкян. С характерным кавказским акцентом он настойчиво твердил: «Это нэрэально, нэ успеем, нэвозможно. Андроник, скажи хоть ты». Смежники продолжали колебаться. И тогда Михаил Кузьмич обратился к А. Г. Иосифьяну: «Андроник, считай, что твоего заместителя я уволил». и, повернувшись к М. Т. Геворкяну: «А Вас я попрошу покинуть кабинет!». Решение с нашими предложениями было подписано очень быстро. Михаил Кузьмич проводил участников совещания. Особенно тепло он прощался с В. А. Хрусталевым, благодарил за понимание. Мне же сказал: «С Геворкяном будешь работать сам, мне с ним встреч не устраивай». Михаил Кузьмич с тех пор ни разу не принял Геворкяна, хотя сотрудничество с ВНИИЭМ продолжалось до 1970 года. За годы работы ведущим конструктором (с учетом специфики работ по переданным А. Г. Иосифьяну и М. Ф. Решетневу темам) мне посчастливилось довольно часто встречаться с Михаилом Кузьмичом, выполнять его поручения, реже получать поощрения и совсем редко – взыскания. Рассказывая о поручениях, мне бы хотелось сосредоточить внимание не на самих поручениях, а как они давались, как к этим поручениям относились исполнители, сколько уважения, а иногда и боязни связывали они с исполнением задания самого Янгеля. Осенью 1963 г. я был в командировке в Загорске, где «ребята» от Решетнева готовили к стендовым испытаниям изделие. Как-то утром, когда мы подходили к служебному зданию, на крыльцо выскочил (не вышел, а именно выскочил) тогдашний директор института В. А. Пухов и закричал в нашу сторону: «Кто из вас Паппо-Корыстин?». Я отозвался. «А ну быстренько к ВЧ-аппарату, сам Янгель тебя вызывает!». Это было неожиданно, так как обычно первыми искали возможности связаться с Главным мы, а не наоборот. В трубке послышался знакомый голос с присущим только М. К. Янгелю прононсом: «Здравствуй, дорогой мой, как у тебя обстановка складывается?». Наступила пауза, видимо, Михаил Кузьмич делал очередную затяжку сигаретой. «Не позволят ли дела, чтобы ты выкроил пару дней для выполнения моего поручения?». Следует заметить, что обращение «дорогой мой» совершенно не означало, что я чем-то особенно был дорог Михаилу Кузьмичу. Просто имена и отчества некоторых работников он не помнил, но, желая подчеркнуть свое расположение, а в ряде случаев и особое доверие, он часто употреблял это обращение. А те, кому это обращение адресовалось, готовы были, как говорится, из кожи лезть, чтобы доказать хотя бы себе самим, что они действительно «дорогие» для Главного. Я поинтересовался характером поручения. «Завтра, − продолжал Михаил Кузьмич, − должно состояться заседание комиссии у Леонида Васильевича по «Метеору». Тюлин настаивает, чтобы на нем присутствовал и докладывал лично я. Я же себя неважно чувствую и вынужден делегировать тебя на заседание как моего полномочного представителя. Должен предупредить, что тебе будет нелегко, иногда даже страшно, но ты не вибрируй, а твердо держись нашей линии: мы не снимаем с себя ответственности головной организации за разработку и создание изделий, мы провели в апреле 1963 года важное организационно-техническое совещание, мы осуществляем авторский надзор по изделию, мы помогаем Иосифьяну выбрать вариант объекта, наши люди работают непосредственно у него в институте, кое-что мы разрабатываем сами, мы курируем конструкторскую документацию на заводе, но мы не намерены и никто нас не заставит подменять Главного конструктора объекта (а Иосифьян – это Главный конструктор) в выборе технических решений тех или иных проблем, имеющихся в разработке! Добавь также, что мы видим свою роль головной организации и в увязке энергетики изделия, и веса объекта, что мы будем вместе с Решетневым и Иосифьяном работать над увеличением энергетических характеристик изделия и уменьшением веса объекта. Надеюсь, тебе все ясно?». Выслушав мой положительный, но не очень бодрый ответ, Михаил Кузьмич коротко бросил: «Действуй!» – и положил трубку. Утром следующего дня я был в министерстве у Алексея Ивановича Якунина, который сообщил мне, что Г. А. Тюлин, узнав о моем приезде в Москву и моем намерении быть на комиссии, заявил, что справится и один. Из кабинета Г. М. Табакова я связался по ВЧ-аппарату с Михаил Кузьмичом и доложил обстановку. Янгель рассвирепел. «Звони немедленно по «кремлевке» Георгию Николаевичу Пашкову и скажи, что тебя, моего полномочного представителя, необходимо включить в состав совещания!». Женский голос вежливо поведал мне, что Георгий Николаевич только что ушел в зал заседаний, а я вновь в это утро связался с Михаилом Кузьмичом. Выслушав мое сообщение, он уже спокойно произнес: «Ну что ж, дорогой мой, поклонись Спасской башне и возвращайся на работу!». Ранней осенью в середине 60-х годов у нас проводилось совещание Главных. Приехали Алексей Михайлович Исаев, Владимир Григорьевич Сергеев, а Михаил Федорович Решетнев из-за нелетной погоды задерживался в одном из аэропортов Сибири. Михаил Кузьмич как гостеприимный и внимательный хозяин был искренне огорчен, что гости обречены на вынужденное бездействие и предложил им на выбор прогулку на катере по Днепру или автомобильную экскурсию по городу. Сергеев стал чертыхаться, что у него «этот город и этот Днепр в печенках сидят», что он тут чаще бывает, чем у себя, что он лучше выспится как следует или книжки почитает и т. д. и т. п., а Алексей Михайлович с удовольствием согласился проехаться по городу. Михаил Кузьмич отозвал меня в сторонку и негромко спросил: «Обстоятельства позволяют тебе уделить время Исаеву? Может быть, у тебя какие-либо планы?». А ведь было рабочее время! И, прекрасно видя, что я согласен, добавил: «Тогда возьмите машину Будника и – вперед!». Умение облечь любую просьбу в такую форму, что ему невозможно было отказать, – это еще одна из граней таланта М. К. Янгеля, его умения общаться с людьми. В 1965 г., когда «Метеор» уверенно выводился разработанным С. П. Королевым изделием, а нашему бывшему изделию хватало работы по выведению ИСЗ разработки М. Ф. Решетнева, М. К. Янгель пригласил меня в кабинет и предложил на недельку-полторы слетать на полигон, где в это время были и М. Ф. Решетнев и А. Г. Иосифьян. «Составишь там, на месте, решение о повышении энергетики изделия и снижении веса «Метеора», чтобы Решетнев мог выводить Иосифьяна на орбиту. Оба будут сопротивляться, но прояви настойчивость, напомни обоим, что нам как головной организации необходим такой документ!». Надо было видеть и слышать, как день-два спустя Андроник Гевондович, спасаясь от «ведущего Янгель-хана», кричал, врываясь в номер Решетнева: «Миша! Что он ко мне привязался, этот Сухово-Кобылин, Римский-Корсаков, Паппо-Корыстин?!». М. Ф. Решетневу так же, как и А. Г. Иосифьяну, не хотелось брать на себя какие-либо обязательства по доработке изделия. И они, и мы прекрасно сознавали сложность решения задачи по «совместимости» изделия и объекта, понимали, что изделию и «Метеору» суждено летать порознь, но возражать Янгелю два Главных конструктора не могли, ибо понимали, какую роль в жизни их организаций сыграл и продолжал играть Михаил Кузьмич. Для нас же, головной организации, это решение на том этапе создания изделия и объекта было весьма необходимо. Это была тактика (а скорее – политика) Главного конструктора Михаила Кузьмича Янгеля. Работать с Янгелем – значило получать удовольствие от работы, какой бы трудной она ни была. Михаил Кузьмич доверял своим «полномочным представителям», не донимал мелочной опекой, поощрял инициативу, доверяя − проверял, гордился успехами своих «ребят». Однажды, будучи на полигоне, мы с А. А. Редькиным были приглашены на торжественное собрание части. Нас усадили в президиум собрания, и пока А. С. Матренин (тогда он был командиром) делал доклад, мы набросали текст поздравительной телеграммы от имени Главного, в которой благодарили личный состав и командование части за их вклад в отработку новой техники, нелегкий ратный труд, желали здоровья, успехов и т. д. Когда я с трибуны зачитал телеграмму, заканчивающуюся подписью «Главный конструктор Янгель», зал взорвался рукоплесканиями, осветился улыбающимися лицами, на которых выражались и радость, и гордость за высокую оценку их работы самим Главным конструктором. Вечером созвонился с Михаилом Кузьмичом, рассказал ему о собрании и о «его» поздравлении, реакции зала. Михаил Кузьмич порекомендовал дополнительно согласовать текст с Б. И. Губановым, который был в те времена секретарем партийного комитета, похвалил нас за находчивость. Высшей похвалой для меня были слова Михаила Кузьмича во время моей аттестации: «Занимаемой должности ты не просто соответствуешь, а вполне соответствуешь», − после чего он собственноручно вписал в аттестационный лист слово «вполне». Когда распределяли премию за «Метеор», Владимир Федорович Уткин здесь, а Михаил Кузьмич уже в Москве подписали ходатайство о премировании меня в большем размере по сравнению с премией, определенной каждому из них министром. В ответ на мое бормотание, что мол, как-то неудобно ведущему получать больше, чем Главному, Михаил Кузьмич заметил: «Дорогой мой, оставь свои сомнения при себе. Ты больше меня работал по этой теме – тебе и больше получать». Неудивительно, что такое отношение Михаила Кузьмича к подчиненным не только окрыляло, но и ко многому обязывало, рождало, если хотите, личную преданность Главному конструктору. Своеобразие в проведении М. К. Янгелем совещаний заключалось в том, что это, прежде всего, было предоставление возможности всем участникам совещания высказать свою точку зрения. Именно свою, как бы она ни расходилась с мнением самого Михаила Кузьмича. Слушая, не перебивал, неоконченных выступлений я не припомню. Зачастую Михаил Кузьмич, дожидаясь, пока кто-то сам изъявит желание выступить, обращался к нему: «А ты как думаешь? Каково твое мнение?». Во время проведения совещаний частенько вставал, прохаживался, часто курил, позволял курить другим. После обсуждения подводил итоги, свою линию не насаждал (за очень редкими исключениями), старался убедить, и это ему прекрасно удавалось. От него всегда уходили с ясной программой: что делать, кому делать. Михаил Кузьмич старался всегда вникнуть в трудности того или иного исполнителя, помочь, а если нужно, то и строго спросить. Обладая чувством собственного достоинства, Михаил Кузьмич умел сохранить его во время встреч, бесед, совещаний с руководителями самого высокого ранга. Насколько я мог видеть, он никогда не суетился, не торопился с предложениями, с ответами на вопросы, не стеснялся, случалось, и возразить, отстаивая собственное мнение. Манера его поведения, тон разговора были одинаковы как с крупнейшими руководителями, так и с рядовыми работниками КБ. Интересно было наблюдать Михаила Кузьмича в общении с другими Главными. Он бывал неизменно вежлив с обаятельнейшим и скромнейшим Алексеем Михайловичем Исаевым, обращаясь к нему только на «вы». Владимира Григорьевича Сергеева, постоянного нашего смежника, отношения с которым были весьма близкими, Михаил Кузьмич называл на «ты» и, усаживаясь за стол совещаний, оставлял стул слева от себя свободным и приглашал Сергеева: «Ты садись слева от меня, чтобы мне сподручней было колотить иногда тебя с правой руки!». К Андронику Гевондовичу Иосифьяну, своему преданному другу, жизнерадостному открытому человеку, в котором уживались и бесхитростность, и какое-то детское лукавство, Михаил Кузьмич относился снисходительно ласково, как относятся к большому, талантливому, но шаловливому ребенку. «Я твой Лумумба, Михаил Кузьмич, – вдохновенно кричал Иосифьян, − а ты – мой Рокфеллер! Дай мне два миллиона, и я тебе сделаю объект – пальчики оближешь!». Михаил Кузьмич, улыбаясь, спокойно отвечал: «Андроник, ты срывал мне планы, пока делал несколько систем, а если тебе дать весь объект − ты меня без штанов оставишь!». При подготовке выступлений Михаил Кузьмич пользовался справками, тезисами, которые обычно готовили ведущие конструкторы, проектанты либо комиссии по подготовке партийно-хозяйственных активов или конференций. Обычно он просматривал при исполнителе подготовленные материалы, затем со словами: «Ты мне оставь их на вечерок, я с ними поработаю», − запирал материалы в сейф и расписывался в реестре (сожалею до сих пор, что списал реестр, в котором Михаил Кузьмич расписывался за полученные документы). Наутро Михаил Кузьмич мог потребовать уточнить сроки, количество, номера приказов или решений и т. п. Выступая, Михаил Кузьмич Янгель всегда смотрел на аудиторию, редко обращаясь к написанному тексту, содержание его речи отражалось даже на выражении лиц слушателей: равнодушных, по-моему, не было, он душу вкладывал в свое выступление, сопровождая его энергичным взмахом руки, наклоном тела, изредка прикасаясь платком к разгоряченному лицу. После выступления он обычно усаживался на свое место, затем спускался в комнатку за сценой, где работала комиссия по составлению проекта решения, выкуривал сигарету, слушал по динамику очередное выступление и возвращался в президиум собрания. Михаил Кузьмич был покорителем сердец мужских, женских, детских, короче, человеческих сердец тех, кому с ним приходилось общаться. И хотя он, став кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР, академиком, дважды Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской и Государственной премий, был все-таки человеком с присущими каждому из нас слабостями: обидчивостью, раздражительностью, усталостью, а иногда и капризностью − он оставался обаятельным. Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что если кто-либо сотрудничал или общался с М. К. Янгелем, тот становился его убежденным и преданным сторонником. Вот как, к примеру, Михаил Кузьмич просил Александра Максимовича Макарова сделать подарок воинской части: «Александр Максимович! Я − бедная канцелярская крыса, и, кроме бумаги и карандашей, ничего не могу подарить солдатам. Королев своей части духовой оркестр подарил. У меня одна надежда на тебя − выручай!». Макаров, минуту-другую посовещавшись с Обориным, отвечал: «Михаил Кузьмич! Мы, имей в виду, не только оркестр, мы и библиотеку туда отправим!». Надо отдать должное Михаилу Кузьмичу – как правило, все просьбы и пожелания со стороны директора завода он принимал с отзывчивостью: «Есть, Александр Максимович, выполним, Александр Максимович!». О невозможности отказать Михаилу Кузьмичу в его просьбе говорит хотя бы такой факт. Летом 1965 г. он, зная, что я лечу в Москву, обратился ко мне с просьбой зайти к нему домой на Малую Бронную и захватить оттуда его туфли, которые мне должна была передать его дочь Люся. Для меня было бы достаточно только поручения – забрать туфли и привезти сюда. Но Михаил Кузьмич добавил извиняющимся тоном: «Понимаешь, болят ноги, сахарный диабет, а в тех мне все-таки будет легче». Естественно, что по возвращению я прямо с аэродрома направился не домой, а в коттедж к Михаилу Кузьмичу, хотя и было довольно поздно. Дети, пожалуй, являются самым чувствительным прибором, распознающим истинную доброту взрослого человека. Зимой 1964 г. в аэропорту Внуково мы ожидали наш арендный самолет, чтобы лететь домой. Я был с дочкой, пятилетней румяной толстушкой. В связи с нелетной погодой рейсы на Украину задерживались, и наши командированные разбрелись кто куда. В здание вошли Михаил Кузьмич и Ирина Викторовна и, заметив меня, расположились рядом. Михаил Кузьмич направлялся в Киев на Пленум ЦК КПУ. Жена его провожала. Вскоре Ирина Викторовна распрощалась и уехала. «Как тебя зовут, малыш?», – обратился Михаил Кузьмич к дочке. «Ми-и-ла», − протянула Милка. «Понравилась ли тебе Москва, что ты видела, чем занималась?», – продолжал расспрашивать М. К. Янгель. Милка начала загибать пальцы: «Красную площадь, Мавзолей дедушки Ленина, в парке на самолетиках каталась, с ледяных горок с папой съезжала, воробышков кормила…», и разговор старого и малого продолжался. Я на пару минут отлучился в буфет, а когда вернулся, они стояли у сувенирного киоска, и Михаил Кузьмич спрашивал: «Ну что тебе здесь больше всего нравится?». Меня бросило в жар: «Михаил Кузьмич, ведь это ребенок, мало ли что ей здесь нравится!». А на витрине киоска красовались дорогие блестящие кофейные сервизы, драгоценные безделушки, броши, браслеты, шкатулки… Милка тыкала пальцем в мельхиоровый набор, состоящий из блюдца, рюмочки, солонки и маленькой ложечки: «Вот это, мне куколок кормить». А Михаил Кузьмич царственно щедро продолжал предлагать: «А может быть, это? А это?». Милка стояла на своем. В детские ладони лег упакованный набор. «Это тебе от меня подарок!». Вскоре была объявлена посадка. «Кто это был, папа?», – спросила дочка. «Это Михаил Кузьмич, когда-нибудь ты будешь читать о нем книги, смотреть кинофильмы…». Трудяга Ил-14 мерно гудел моторами, в салоне было тепло, уютно… «А он ленинец?» – продолжала спрашивать она, уже засыпая. «Настоящий ленинец, доченька, спи!». В детских садиках, видно, тоже проходят политграмоту. Мера уважения, любви и преданности к человеку наиболее полно, пожалуй, раскрывается после его смерти. 27 октября 1971 года. В траурном убранстве Краснознаменный зал Центрального Дома Советской Армии. Медленно течет скорбная человеческая река. У гроба нашего Михаила Кузьмича сменяется почетный караул… Члены правительственной комиссии по организации похорон, ученые, космонавты, соратники, военные, гражданские… Справа от гроба осиротевшая семья, родные, близкие. Среди них Владимир Федорович Уткин, Александр Максимович Макаров… Глаза застилают слезы, в горле комок. Приближаются последние минуты прощания… Выносятся траурные знамена, ордена и медали, венки… Наготове стоят автобусы и вбирают в себя провожающих Михаила Кузьмича на Новодевичье кладбище. Все совершается без спешки и суеты, разговоры ведутся вполголоса. И вдруг сквозь окружающую массу людей прорывается бегущая человеческая фигурка с металлическим траурным венком. Человек очень спешит, видно, как тяжело даются ему последние метры перед входом в здание, откуда вот-вот вынесут тело. Да ведь это – Иосифьян! Как он изменился! Постарел и как-то сжался весь. Из последних сил он поднялся на второй этаж, где уже готовились поднять на плечи гроб с телом Михаила Кузьмича. Андроник Гевондович рухнул на колени, сорвал с себя шапку: «Прощай, друг!». На наших глазах совершалось прощание с большим, мудрым и добрым Человеком… Как младенец не может оценить роль родителей, так и мне трудно оценить роль Главного конструктора М. К. Янгеля. Но в важном значении для Страны Советов и высоком авторитете нашей организации чувствуется роль М. К. Янгеля. И в том, что после его кончины мы уверенно продвигались вперед, − это тоже заслуга М. К. Янгеля. В том, что дух Янгеля живет в его соратниках и учениках, в их отношениях к людям, к делу, − это от Янгеля! Октябрь 1981 г. - - -ПАМЯТИ ЯНГЕЛЯ Так получилось, что с легкой руки Б. И. Губанова на меня с 1972 г. была возложена чрезвычайно почетная, но и довольно тяжелая ответственность – организация работ по увековечению памяти Михаила Кузьмича. Должен заметить, что увековечивать ушедших из жизни несколько труднее, чем увековечивать живущих. Но увековечивать память Янгеля все-таки было легко. Прежде всего благодаря мощной и постоянной поддержке и помощи со стороны В. Ф. Уткина, А. М. Макарова, Л. Д. Кучмы (как секретаря парткома КБ и завода, а впоследствии и как генерального директора Южмаша). Длительное время, до перевода в НПО «Энергия», душой коллектива, занимающегося работами по увековечиванию памяти Михаила Кузьмича, оставался Б. И. Губанов. Находили время для решения этого рода вопросов В. В. Щербицкий, А. Ф. Ватченко, Б. Е. Патон. На территории завода высится трехметровая фигура Янгеля, отлитая из бронзы, в обрамлении полированных гранитных плит. Стало уже традицией возлагать цветы к подножию памятника в день рождения Михаила Кузьмича, в День космонавтики, в День ракетных войск и артиллерии. Гости КБ и завода, в том числе самые высокие, обычно начинают знакомство с предприятием с посещения памятника и возложения цветов. Памятник Янгелю был открыт в 1976 г. накануне 65-летия со дня рождения Михаила Кузьмича. Сейчас можно поделиться некоторыми подробностями, о которых ранее не упоминалось, благодаря решению которых на территории завода был установлен именно памятник. А не бюст, как предусматривалось постановлением правительства. К 1976 г. Янгель был скульптурно увековечен на Новодевичьем кладбище, на мемориальных плитах, установленных в МАИ и НИИ-88, бюст Янгеля был установлен у монтажно-испытательного корпуса 42-й площадки на Байконуре, шла работа над бюстом для родины Кузьмича в Сибири. Мы со Степневским и Платоновым вышли к В. Ф. Уткину и А. М. Макарову с предложением установить на заводской территории бронзовую фигуру Янгеля в полный рост. Оба руководителя согласились с идеей памятника, но требовалась поддержка со стороны руководства. На одной из сессий Верховного Совета СССР В. В. Щербицкий и А. Ф. Ватченко решительно поддержали наши предложения об установлении памятника в заводском парке, который и был открыт накануне октябрьских праздников. И хотя мощная, как уже отмечалось, поддержка и помощь «сверху» несомненно имели большое значение, все же решающий вклад в конечный результат, в реализацию проектов в камень, бронзу, титан, стенды, планшеты, медали, значки – безусловно вносили рядовые труженики. Отношение этих далеко не сентиментальных людей к делу характеризовалось не просто добросовестностью и дисциплиной, а прежде всего искренним чувством любви к Михаилу Кузьмичу и преданности ему. Потребовалась бы объемистая книжка, если попытаться подробно рассказать о том, как, когда и кто ваял бюсты, тесал и полировал камни, отбирал фото и делал планшеты, фрезеровал буквы, создавал фильмы и портреты. Народный скульптор Украины Галина Никифоровна Кальченко, не знавшая Кузьмича при жизни, была буквально покорена образом человека, пришедшего из тайги и сотворившего себя. Она жадно изучала фотографии Янгеля, его жизненный путь, не один раз просматривала кинокадры, на которых был запечатлен Кузьмич, интересовалась его характером, поступками, семейной жизнью. Скульптурный портрет Янгеля, созданный этой одаренной женщиной (автором всемирно известной скульптуры Леси Украинки), украсил площадь имени Янгеля в Железногорске-Илимском, улицу Янгеля в Днепропетровске и центральную улицу в Ленинске. Поначалу, когда мы, ученики и соратники Михаила Кузьмича, рассматривали этот бюст, то, откровенно говоря, не находили большого сходства с Янгелем. Но Галина Кальченко не уставала разъяснять, что она создавала образ сильного, талантливого, мужественного человека, и именно таким сформировался в ее воображении Янгель, что в этот образ она вложила собственную душу и сердце. И мне кажется, что и Сибирь, и Днепропетровск, и Байконур приняли и полюбили Янгеля, увековеченного талантом Галины Кальченко, также вскоре безвременно ушедшей из жизни. Говоря о мемориалах и бюстах, нельзя не вспомнить о наших земляках – архитекторе Игоре Нескоромном, скульпторах Константине Чеканеве и Валентине Щедровой – авторах памятника, установленного на заводе. Хочется выразить благодарность скульптору Ю. Жирадкову, который сделал самый первый бюст Михаила Кузьмича. Бюсты его работы установлены на космодромах Байконур и Плесецк. И, конечно, нужно тепло поблагодарить заводского умельца – литейщика Федора Андреевича Майстренко, сумевшего создать настольный бюст Янгеля, его барельеф и копию заводской скульптуры, которые мы в самые торжественные жизненные даты дарим тем, кому довелось работать и общаться с Михаилом Кузьмичом, в ком янгелевское отношение к делу и людям. Все-таки Янгеля очень любили и продолжают любить и через двадцать лет после его кончины. А разве можно забыть Сибирь, октябрь 1977 г., Железногорск-Илимский, заполненную до отказа площадь, на которой Г. С. Титов, Л. Д. Кучма, И. В. Стражева-Янгель открыли бюст на родине Героя. И где бы мы, члены делегации от КБ «Южное», потом ни бывали: в Березняках, Братске, Иркутске, на Байкале – мы всюду ощущали на себе любовь и гордость сибиряков за своего замечательного земляка. А разве изгладится из памяти трогающий до слез момент, когда большой друг Янгеля Михаил Григорьевич Григорьев не успел даже на трибуну подняться после открытия бюста Янгеля на 42-й площадке Байконура, а уже к подножию бюста подскочили молодожены: Она, юная, в белом наряде, так контрастирующем на фоне военных мундиров и штатских костюмов, и он, молодой, взволнованный, празднично одетый, возложили живые цветы. …Неумолимо движется время. Вчерашние ученики Янгеля становятся пенсионерами. Некоторые ушли из жизни. Считаю необходимым хотя бы упомянуть фамилии тех, кто своим трудом, энергией, талантом помогал увековечить память человека, ставшего для многих из нас эталоном мудрости, доброты, доступности. Это работники КБ и завода: Платонов, Степневский, Полысаев, Мягких, Евграфова, Ивченко, Пивень, Горбулин, Серветник, Сидоренко, Дюмин, Татаренко, Дзигуненко, Нагорный, Обертас, Марьенко, Андреев, Христич, Алексеев, Кириченко, Кравченко, Головин, Караханян, Дедюшко, Борисенко, Конюхова, Малышев, Волгин, Мошик, Пиленков, Негода, Жиленко, Петрушевский, Андросов, Шабохин, Козак, Санин, Сметанин, Конюхов, Терещенко, Баранов, Шевцов, Галась, Гришин, Грачев, Евдокименко, Фролов, Коротких, Андрюшенко, Хвойницкий, Мирошник, Калюта, Булыкин, Самосуев, Осипов, Минаев, Авдеев. Это сибиряки: Самодуров, Калошин, Кузнецов, Сакович, Сафонов, Пустобаева, Русакова, Перфильева, Ковшаров, Малышева, Анкудинов, Белых… Это военные с Байконура: Кузнецкий, Алескин, Труничев, Кубасов… И пусть меня простят те, кого я не назвал в этих не претендующих на полноту списках как по составу участников, так и по содеянному ими. Особо хочу остановиться на роли и месте Владимира Платонова в деятельности по увековечению памяти Михаила Кузьмича. Он является бесспорным лидером в проведении поисковых и исследовательских работ в биографии Янгеля, его родословной, в создании музея Янгеля в Железногорске-Илимском, мемориального дома-музея в Березняках, экспозиций фотои документальных материалов в различных музеях, школах, на полигонах и предприятиях страны. Через несколько месяцев исполняется 80 лет со дня рождения Михаила Кузьмича. А буквально несколько недель назад в Днепропетровске открыта выставка «Днепропетровск – космосу». Выставка подготовлена конструкторами и заводчанами, ее открытие приурочено к 30-летию полета Юрия Гагарина в космос, размещена она в историческом музее имени Д. И. Яворницкого. Материалы, представленные на выставке, а это фотопортреты основателей КБ и завода, ведущих специалистов, ученых и испытателей ракетных полигонов, модели ракет-носителей, полномасштабные искусственные спутники Земли, подлинники документов, награды, памятные значки – позволяют сделать вывод, что Днепропетровск – это не только город чугуна и стали, но и крупнейший ракетно-космический центр страны. Мы посчитали своим долгом показать на этой выставке жизненный и творческий путь выходца из сибирской глубинки, ставшего основателем нашего конструкторского бюро, нашим мудрым и добрым наставником. Наконец-то и днепропетровцы, и многочисленные гости нашего миллионного города получили возможность познакомиться поближе с Главным конструктором М. К. Янгелем, его соратниками и учениками, творцами ракетно-космической техники. Июнь 1991 г. - - -НА РОДИНЕ МИХАИЛА КУЗЬМИЧА Деревни Зырянова Иркутской губернии, где родился Михаил Кузьмич Янгель, не найти на тверди земной, ибо она оказалась в зоне затопления при создании Усть-Илимской ГЭС, когда образовавшееся Усть-Илимское водохранилище затопило плодородную долину реки Илим. Но крестьянская изба, построенная дедом Михаила Кузьмича – Лаврентием, была заботливо, в целости и сохранности перенесена в поселок Березняки более 35 лет назад. С тех пор усилиями земляков, местной власти, родственников Михаила Кузьмича она стала домом-музеем семьи Янгелей. А главным центром, где увековечен наш Кузьмич, стал г. Железногорск-Илимский, где в 1977 г. был открыт бюст дважды Героя Социалистического Труда, академика, Главного конструктора ОКБ-586 Михаила Кузьмича Янгеля. Почетное право открыть памятник было предоставлено тогда Ирине Викторовне Стражевой – вдове М. К. Янгеля, космонавту-2 Герману Степановичу Титову и главе делегации – секретарю парткома КБ «Южное» Леониду Даниловичу Кучме. В состав делегации, прибывшей на родину М. К. Янгеля в канун 95-летия со дня его рождения, входили автор этих строк и Владимир Платонов (г. Днепропетровск), представлявшие КБ «Южное»; Николай Митрахов, Валерий Фролов и Виктор Степневский (г. Киев), представлявшие Национальное космическое агентство Украины и Аэрокосмическое общество Украины, и Анна Янгель (г. Москва) – внучка Михаила Кузьмича – любимица всей нашей делегации, круглая отличница, выпускница МГУ имени Ломоносова, получившая назначение в МИД России для работы в Китае. В «Боинге», вылетевшем из московского аэропорта «Домодедово», было тепло и уютно, вежливое обслуживание, горячая пища. Самолет приземлился в аэропорту Братска рано утром по местному времени. Нас встречали работница аппарата администрации Нижнеилимского района Людмила Александровна Сахарова и журналистка областной газеты «Наш сибирский характер» Ирина Маслакова, специально проехавшая на такси от Иркутска до Братска более 1000 км! В шесть часов, еще было темно, местная «Газель» двинулась сквозь тайгу со своими пассажирами в конечный пункт нашей командировки – в райцентр Нижнеилимского района. В небольшом по численности населения (около 62 тыс. чел.) Нижнеилимском районе площадью 19 тыс. кв. км районным центром является город Железногорск-Илимский с населением примерно 30 тыс. чел. Заснеженная дорога, местами вполне приличная, а местами – не очень, в конечном счете, закончилась у гостиницы «Магнетит», где нас и разместила администрация Нижнеилимского района. После небольшого отдыха и обеда представители нашей делегации отправились в местную больницу навестить находящуюся там на лечении Валентину Кузьминичну – младшую сестру Михаила Кузьмича – единственную оставшуюся в живых из двенадцати детей Кузьмы Лаврентьевича и Анны Павловны Янгель. На следующий день в 10 часов утра наша делегация была представлена в мэрии городскому и районному активу. Помимо представителей мэрии во главе с мэром района Семеном Яковлевичем Гендельманом, по профессии детским хирургом, в зале собрался актив города Железногорска-Илимского и Нижнеилимского района – ветераны, руководители промышленности, культуры и просвещения, представитель губернатора Иркутской области. Собравшиеся с нескрываемым интересом и одобрением заслушали поздравления Президента Украины в 1994–2004 гг. – воспитанника М. К. Янгеля – Леонида Кучмы, Генерального конструктора-Генерального директора КБ «Южное» имени М. К. Янгеля Станислава Конюхова, Президента Аэрокосмического общества Украины, летчика-космонавта Виталия Жолобова. Мы продемонстрировали сибирякам плакаты, дающие представление о разработках, выполненных КБ «Южное» по боевым и ракетно-космическим комплексам, и вручили наши подарки, привезенные из Днепропетровска и Киева: книги, буклеты, видеокассеты, диски, рассказывающие о М. К. Янгеле и его наследии. Участники встречи задали ряд вопросов по занимаемому ныне месту Украины в мировом космическом сообществе, поделились воспоминаниями почти тридцатилетней давности о начале и последующем развитии отношений и сотрудничества родины Михаила Кузьмича с КБ «Южное». А потом на площади имени Янгеля состоялся торжественный митинг, на который собралось не менее пятисот человек. Около половины участников составляли школьники, мужественно переносящие ветерок с морозцем. С чувством искренней симпатии и большим интересом восприняли собравшиеся выступление внучки Кузьмича, дочери рано ушедшего из жизни Александра Михайловича Янгеля – Аннушки Янгель. Слова гордости за великого земляка прозвучали в выступлениях мэра района С. Я. Гендельмана, директора Историко-художественного музея имени Янгеля Раисы Григорьевны Рафаэль, представителя губернатора Иркутской области. К подножию памятника были возложены живые цветы и гирлянда хвойных ветвей, переплетенная лентой цветов российского флага. После обеда состоялось посещение музея имени Янгеля, встреча с соратниками и родственниками Михаила Кузьмича, награждение участников конкурса «Я – земляк создателя ракет» и викторины «С берегов Илима – до космических высот». Общим для всех проводимых мероприятий был дух искреннего патриотизма и гордости за свою малую родину, за своего земляка, прославившего ее, за рождающиеся в сознании мысли и надежды, что в жизни каждого есть место подвигам. На следующее утро в двери занимаемых нами номеров в гостинице раздался громкий и настойчивый стук. Голос нашей покровительницы и руководительницы Людмилы Александровны Сахаровой призывал: «Ребята, вставайте! Завтрак через полчаса». Надо отметить, что во время нашего пребывания в Сибири 6-часовая разница во времени между ЖелезногорскИлимским и Украиной давала о себе знать. Восемь часов утра по местному времени соответствовали двум часам ночи по киевскому времени. К тому же ежедневный «автопробег» нашей делегации по сибирским дорогам составлял от 300 до 500 км. Ну и, конечно, радушные приемы сибиряков… Поэтому беспокойство по поводу нашей побудки было совсем не лишним. После завтрака – экскурсия по городу и посещение Мемориала воиновилимчан, где захоронен Александр Кузьмич Янгель – старший брат Михаила Кузьмича, вся жизнь которого была связана с армией. В годы Великой отечественной войны генерал-майор А. К. Янгель командовал дивизией. 9 мая 1985 года его прах по решению вдовы был перезахоронен с Серафимовского кладбища г. Ленинграда на его родине. Следующая точка нашего маршрута – Коршуновский горно-обогатительный комбинат (КГОК) – основной кормилец района, который производит один из лучших в России железорудный концентрат. Впечатление от увиденного незабываемое: вскрытые склоны напоминают необъятную лестницу со ступенями с многометровой высотой, кажущиеся крохотными многотонные самосвалы, с трудом различаемые фигурки людей. Встреча с руководством КГОКа отличалась радушием, гостеприимством и сравнительной непродолжительностью – нам нужно было ехать в поселок Березняки. У Дома-музея семьи Янгель нас уже ждали. Традиционные хлеб-соль, задорная, в честь гостей приветственная песня, и мы входим в дом, где родился и рос Миша Янгель. В доме очень чисто, свежий воздух. Старинный дом, чувствуется, окружен уходом и заботой. Меня лично взволновала подвешенная к потолку детская колыбель (по местному – зыбка), в которой начинали свой путь в большую жизнь 12 детей семьи Янгель. Поселок Березняки всегда отличался хлебосольством, гостеприимством, песенным искусством, и процесс расставания и прощания обычно затягивался. Затянулся он и в этот раз. Утром следующего дня вновь звучал подъем, провозглашаемый неутомимой и заботливой Людмилой Александровной, напоминающей, что сегодня мы посещаем поселки Янгель и Новая Игирма. Поселок Янгель, пожалуй, самый молодой в Нижнеилимском районе. Он появился уже после смерти Михаила Кузьмича и название ему было решено дать в честь выдающегося земляка. На встрече с учащимися и педагогическим персоналом поселковой школы, состоявшейся вскоре после нашего приезда в актовом зале, ученики декламировали стихи, танцевали, пели. Многие из учителей вспоминали первую нашу встречу и сердечно принимали единственную среди нас Аннушку с фамилией Янгель, и искренне сожалели, что нас уже ждут в Игирме. На выходе из школы перед «Газелью» нас окружила внушительных размеров группа школьников разных классов. Они протягивали блокнотики, книжки или просто крохотные листочки с просьбой оставить автограф. Янгель делал нас значимыми фигурами в глазах детей в этом чистом и отдаленном от больших мегаполисов крае, и мы безотказно удовлетворяли просьбы маленьких граждан поселка со столь дорогим для нас именем. И опять дорога, местами с хорошим покрытием, местами – не очень, но вполне сносная для зимнего времени: ведь снег – это тоже покрытие. Впереди проблескивающая маячком милицейская машина сопровождения, с которой мы были неразлучны со времени нашего прибытия в Братск. А вот и Новая Игирма. Бросаются в глаза четырехэтажные кирпичные дома рядом с привычными одноэтажными деревянными и каменными строениями. А вот и новый район, неведомо по каким причинам названный Химки. Название района поневоле связывалось с подмосковными Химками, где рождались мощные двигатели для ракет стратегического и космического назначения, с именами В. П. Глушко, В. П. Радовского, В. С. Радутного и их коллег, творческое сотрудничество с которыми у КБ «Южное» продолжается уже более полувека. Въезжаем на территорию совместного российско-японского предприятия «Игирма-Тайрику». Административный корпус: чистота и ... безлюдность. На этажах огромные залы со стеклянными прозрачными стенами, внутри которых сидят за столами и работают десятки сотрудников, преимущественно прекрасного пола. Нам неудобно и неприлично было долго глазеть на работающих, но, пока проходишь мимо стеклянной стены длиной 15–20 метров, убеждаешься, что привычной для нас болтовни и разговоров здесь нет. Нас принимает один из трех директоров фирмы Георгий Шангин. Кратко излагает «тактико-технические характеристики» предприятия, а затем представляет нам своего специалиста: «Главный энергетик «Игирма-Тайрику» Михаил Янгель». Выражение наших лиц, видимо, напоминало совокупность знаков препинания: восклицательный, вопросительный, многоточие, точка. Высокий, очень симпатичный, без какой-либо рисовки, внешне напоминающий обликом молодого Кузьмича, Михаил Янгель (так и хочется добавить – Второй) – внучатый племянник М. К. Янгеля! После экскурсии по суперсовременному деревообрабатывающему предприятию «Игирма-Тайрику» и посещения поселкового музея, посвященного М. К. Янгелю, было прощальное застолье, наполненное взаимным признанием и благодарностью друг другу. Время неумолимо отсчитывало минуты и часы, остававшиеся до отъезда в аэропорт Братска. А нужно было еще добраться до Железногорска, упаковать свои вещи с учетом банок с брусникой, кедровыми орехами, пакетов с рыбой, картин, сувениров – многочисленных подарков, переданных нам в Москву, Киев и Днепропетровск. В гостиницу мы приехали вовремя и выехали в аэропорт. Погода с каждым часом становилась все хуже: повалил густой мокрый снег. По дороге приходилось часто останавливаться и вручную очищать лобовые стекла автомобилей. Приехав в аэропорт, мы были «обрадованы» известием, что самолет из Москвы еще не вылетал по метеоусловиям Братска. Сибирь явно не хотела нас отпускать. После 12-часового ожидания самолет прибыл, и мы благополучно вернулись в Москву, успев на следующий день, перед отъездом домой, посетить Новодевичье кладбище, где похоронен Михаил Кузьмич Янгель. Посещение родины М. К. Янгеля и общение с его добросердечными земляками оставило огромный след в наших душах и позволило нам приблизиться к пониманию того, что такое сибирские корни Великого конструктора, совершившего так много за такую короткую жизнь. Апрель 2007 г. * * *
Ваддар Александрович ПАЩЕНКО, РЕДКИЙ ТАЛАНТ КОНСТРУКТОРА И ЧЕЛОВЕКА Мои воспоминания о М. К. Янгеле носят характер ассоциаций, сложившихся личных представлений о его индивидуальных деловых качествах с теми конкретными примерами, которые сохранились в памяти от общения с Михаилом Кузьмичом. Друг молодежи. Активная и ответственная комсомольская деятельность М. К. Янгеля в пору его молодости, по-видимому, оставила неизгладимую симпатию к молодежи на весь последующий период его жизни и деятельности. Принимая на себя руководство КБ, он в своих далеко идущих планах делал ставку на молодежь, доверял ей, опирался на нее и оказывал всяческую помощь. В бытность мою секретарем комсомольской организации Михаил Кузьмич неоднократно говорил: «Заходи в любое время», «Почему редко заходишь?», «Какие есть просьбы у комсомола?». И, действительно, безоговорочно принимал, выслушивал и удовлетворял наши разумные просьбы. Примером большого доверия Михаила Кузьмича к молодежи (а в составе КБ тогда было 65 % работников комсомольского возраста) был тот факт, что к концу 1955 года из состава молодых специалистов (стаж до трех лет) им было назначено: начальником сектора – 1, начальником лаборатории – 1, начальниками группы – 8, старшими инженерами – 12 человек. По представлению Михаила Кузьмича я был назначен председателем Государственной комиссии по испытаниям, имея за плечами всего четыре года стажа работы. Михаил Кузьмич тянулся к молодым, охотно принимал участие в вечерах отдыха, торжествах, поощрял самодеятельность, юмор; находясь в командировках, проводил в молодежном окружении редкие часы отдыха. А молодежь, видя в нем справедливого начальника, мудрого воспитателя, авторитетного лидера, платила ему безграничной преданностью, энтузиазмом, верой в общее дело и благоговейной любовью. Возможность выполнить просьбу Михаила Кузьмича, связанную с нашей общей работой, расценивалась большинством молодых как большая моральная награда. Кадровая политика. В моем представлении, Михаил Кузьмич прекрасно разбирался в людях, и не случайно среди его друзей были многие замечательные люди того времени. Был период (в первом пятилетии ОКБ), когда Михаил Кузьмич, вынуждаемый необходимостью заполнять все ячейки структуры, и в силу природной доброты брал всех подряд, кто предлагал ему услуги, со всех концов страны и испытывал их работой в коллективе, в силу и крепость которого он уже уверовал и не боялся их подорвать. Такая тактика, на мой взгляд, была весьма оправдана. В результате КБ приобрело таких замечательных работников, как, например, М. И. Галась, М. А. Ахметшин, И. И. Купчинский, П. М. Колос, Н. И. Урьев, В. Л. Катаев, Л. Н. Нелюбин, И. Д. Бураковский и другие. В то же время М. К. Янгель с легкостью расставался с теми, кто не выдерживал испытаний напряженностью работы, требованиями к квалификации и качествам личного характера. Проведение совещаний. Для меня присутствие на совещаниях, проводимых Михаилом Кузьмичом, всегда было огромным удовольствием. Вначале о совещаниях, которые я назвал бы «должностными». Он неоднократно созывал, например, совещания начальников групп со всего КБ и только одних, без вышестоящих начальников, рассказывал об их роли, задачах, своих требованиях к ним, выслушивал их претензии, в несоразмерных разубеждал, а справедливые немедленно реализовывал. Такие же совещания он устраивал с ведущими конструкторами, обуздывал их чрезмерный гегемонизм, корректировал их позицию в отношении к начальникам отделов. Полезны были и «информационные» совещания, которые Михаил Кузьмич созывал по возвращении из поездок после встреч с руководителями партии, правительства, Академии наук, министерств, приглашая узкий круг работников, которым эта информация, по его мнению, была полезна для дела и понимания обстановки. Обычно это были его заместители, ведущие проектанты и отдельные ведущие конструкторы по лично им составленному списку. Свою информацию Михаил Кузьмич сопровождал комментариями и вытекающими из них рекомендациями. Технические совещания, проводимые Михаилом Кузьмичом, также отличались своеобразием. Он готовился к обсуждаемому вопросу и имел по нему свое предварительное мнение, просматривал предлагаемый список участников и вносил в него свои коррективы. Каждый приглашенный получал возможность и обязан был высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу. «Молчальники», «присоединившиеся» или руководители, не компетентные в вопросах и выставлявшие для ответов своих подчиненных, для него интереса не представляли, и для следующего обсуждения не приглашались. Михаил Кузьмич технические решения принимал не по «большинству голосов»: для того чтобы утвердить или изменить свое предварительное мнение, для него важны были вескость и убедительность аргументации, невзирая на должности присутствующих и их количество. Вспоминаю совещание по обсуждению состава и структуры головной части 15Ф143У, когда я единственный выступил против мнения В. С. Будника, Н. Ф. Герасюты, Ю. А. Сметанина, молчаливо поддержанного другими участниками. Но, видимо, мои доводы в пользу перспективности предлагаемой унифицированной структуры этого совершенно нового для КБ изделия показались Михаилу Кузьмичу заслуживающими внимания, он поддержал меня, убедил колеблющихся. С другой стороны, вспоминаю случай, когда в период трудностей с твердотопливным двигателем разведения Михаил Кузьмич, определенно кем-то настроенный, вернулся из очередной поездки и собрал совещание с большим желанием повернуть коллектив на использование ЖРД для разведения второй ступени изделия. Но перед дружными доводами присутствующих уступил в своем стремлении и ограничился поручением выпустить технический отчет, который он, видимо, кому-то пообещал, хотя результаты отчета были уже предопределены. Техническая политика. По прошествии времени техническая политика М. К. Янгеля видится еще более мудрой, дальновидной и плодотворной, чем это казалось лет 25–30 назад. Как и у каждого политика, у него были стратегия, тактика и оперативное искусство. Стратегия Михаила Кузьмича на сегодня общеизвестна: понимая, что нельзя объять необъятное, он стремился определить для КБ свою перспективную, отличительную, долгоживущую сферу деятельности и добиться в ней передовых главенствующих высот. А вот тактические его действия не всегда были сразу понятны очевидцам и современникам. Для того чтобы коллектив рос, набивал руку, приобретал квалификацию, М. К. Янгель брал в разработку и мелкие темы, но когда наступало время решать генеральную задачу, требующую сосредоточения всех наличных сил, он от этих тем умело уходил. Так, напутствуя меня на завершающий этап работ по теме, где я первый раз был ведущим конструктором и представителем Государственной комиссии по испытаниям изделия сбросом с самолета, он говорил примерно такие слова: «Твоей работой я доволен, но сделай так, чтобы эта работа не имела для нашего КБ продолжения. Я тебя понимаю, как ведущему конструктору тебе должно быть досадно, но не беспокойся – работу тебе мы найдем». Указание было выполнено, тему передали предприятию в Пермь, а я был назначен ведущим конструктором разработки ракеты-носителя 11К63 и спутников, названных «Космос». Когда в отрасли появились предложения по разработкам КБ Главного конструктора В. Н. Челомея, мы очень переживали закрытие разработки нашего изделия 8К66 в угоду его теме УР-100. Но, как оказалось, Михаил Кузьмич из двух зол выбрал меньшее. Он получил в разработку более перспективную тему – 8К67, сулившую большие технические возможности дальнейшего развития ее в течение длительного времени, а впоследствии показавшую, что наше КБ успешно могло работать и в классе изделий типа УР-100, создав изделия 15А15 и 15А16. Во многом сходная картина получалась с изделием 8К99, пожертвовав которым, Михаил Кузьмич создал обеспечивающие предпосылки для получения в разработку более важной ракеты РТ-23. Очень правильным и своеобразным было предложение Михаила Кузьмича по железнодорожному комплексу, и если бы оно было поддержано соответствующими инстанциями, наша страна могла бы располагать на сегодняшний день более существенными возможностями в этой области техники. Как-то в непринужденной нерабочей обстановке я запальчиво «предсказал», что в недалеком будущем все наше КБ в основном займется обеспечением работ по космическому направлению, руководимому В. М. Ковтуненко. Присутствовавший при этом Михаил Кузьмич в ответ добродушно улыбнулся и сказал, что на этот раз я буду не прав, и вскоре жизнь убедительно доказала это, и сам я вот много лет подтверждаю его правоту. Щедро делясь ответвлениями тематики нашего КБ с другими организациями, Михаил Кузьмич взамен надолго получал с их стороны для себя и всего коллектива доброжелательное отношение и товарищескую взаимопомощь. Блестящий оратор. Таким был и остается в моей памяти М. К. Янгель. К своим выступлениям он готовился серьезно и тщательно. Там, где по обстановке требовался письменный текст, он писал его лично и неоднократно корректировал уже отпечатанное, но я ни разу не помню, чтобы он читал чужую заготовку или, как сейчас называют, «разработку». Чаще Михаил Кузьмич импровизировал по собственному плану, используя предоставленный ему справочный материал. Мне часто приходилось готовить ему справки, но однажды для обзорного выступления в обкоме партии я написал для него полный текст доклада, и когда я, присутствуя в качестве ассистента, слушал его, то, с одной стороны, узнавал и в то же время не узнавал свой материал – информация была моя, но построение, выражения, обороты совсем другие, присущие только Михаилу Кузьмичу. Выступая перед аудиторией, говорил он очень грамотно, всегда эмоционально, убежденно, передавал свое настроение слушающим; работники КБ всегда стремились попасть на выступления Михаила Кузьмича и жадно ловили и воспринимали каждое его слово. Учитель и наставник. При всей своей занятости Михаил Кузьмич находил возможность научить тому, чего исполнитель мог не знать по не зависящим от него причинам. На первых порах своей деятельности я принес Михаилу Кузьмичу составленный мной и согласованный со всеми его заместителями проект постановления правительства по новой теме. Опыта у меня в таких документах не было, и никто из визировавших не подсказал мне (а может быть, и не знал), что имеется определенный стереотип составления таких документов. Так вот, Михаил Кузьмич без всякого раздражения взял мое творение и, попросив писать, дословно продиктовал мне текст постановления, сформулированный соответствующим образом. Когда вышло постановление об утверждении меня председателем Государственной комиссии, никто из моих руководителей и старших товарищей не мог ответить на беспомощные вопросы молодого инженера, что входит в мои функции и как себя вести. Тогда я вынужден был обратиться к Михаилу Кузьмичу, который популярно растолковал, кто есть кто, что должен делать и как должен держать себя с руководителями участвующих в работе организаций такой председатель, как я, а в последующем наставлял меня по ходу. Михаил Кузьмич очень болезненно относился к качеству выходящего за его подписью делового документа. Если за пропущенные опечатки он журил, иногда с возвратом документа, то за безграмотное и бестолковое исполнение он приходил в ярость. Малограмотный или небрежный в изложении инженер терял всякое его уважение. Создание ОКБ-586 (КБ «Южное»). Что получил Главный конструктор Янгель в качестве «приданого»? Небольшую группу специалистов-ракетчиков во главе с В. С. Будником, которые прибыли на завод из ОКБ С. П. Королева и В. П. Глушко. Группу конструкторов-автомобилистов из бывшего автозавода, которые решили остаться на заводе после преобразования его в ракетный. Отряд грамотных молодых инженеров, выпускников разных институтов и университетов страны, которые желали создавать ракеты, но не имели практического опыта. Вот с этим багажом 43-летний Главный конструктор создал организацию, обустроил лабораторно-испытательную базу, разработал и сдал Заказчику свою первую ракету. В тот период, когда средний возраст сотрудников КБ составлял всего 24 года, во всю мощь проявились организаторские способности Янгеля, и был заложен фундамент будущих успехов. Важнейшей задачей, успешно решенной Янгелем, было создание сплоченного работоспособного коллектива единомышленников, основу которого составили молодые специалисты, пользовавшиеся его безграничным доверием и также безоговорочно доверявшие ему. Самобытный неповторимый стиль работы КБ «Южное» и великолепные достижения этого коллектива позволяют заявить о существовании конструкторской школы его создателя М. К. Янгеля. Итак, какие же идеи и дисциплины объединила школа конструкторского мастерства Янгеля? Ракеты КБ «Южное» разрабатывались инициативно, пробивали себе путевку в жизнь в острой борьбе с конкурентами и поступали в эксплуатацию в то время, когда были особенно нужны. Замысел новой ракеты и ракетного комплекса возникает благодаря научному поиску, дару предвидения руководителя и прогнозу потребности Заказчика. Использование всего лучшего, что было создано раньше, но не копирование, позволяет находить оптимальное решение. Копия никогда не будет лучше оригинала. Значимость каждой школы подтверждается достижениями ее учеников. Фамилии наиболее известных воспитанников «школы Янгеля» говорят о многом: В. Ф. Уткин, Ю. П. Семенов, В. И. Моссаковский, Л. Д. Кучма, В. М. Ковтуненко, Б. И. Губанов, С. Н. Конюхов, В. П. Горбулин, В. В. Пилипенко. Большинство революционных технических решений, рожденных конструкторским и организаторским талантом М. К. Янгеля, стали классикой ракетно-космической техники. Июль 1996 г. * * *
Александр Викторович КЛИМОВ, У ИСТОКОВ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ В начале апреля 1954 г. с группой молодых специалистов я приступил к работе в отделе Главного конструктора завода № 586, а вскоре мы узнали, что на базе нашего отдела создано Особое конструкторское бюро – ОКБ-586. К этому времени наш коллектив занимался двигателем для ракеты Р-2 и освоением двигателя для ракеты Р-5 – обе разработки ОКБ-456 В. П. Глушко. С приходом М. К. Янгеля начался новый этап в жизни нашего коллектива, связанный с созданием боевых ракетных комплексов. К 1958 г. номенклатура ракетных двигателей на заводе насчитывала более полутора десятка типов, в числе которых уже были два двигателя своей разработки и двигатели разработки Главных конструкторов В. П. Глушко, А. М. Исаева, Д. Д. Севрука. Поэтому было принято решение о создании в составе ОКБ-586 специализированного конструкторского бюро по жидкостным ракетным двигателям – КБ-4, Главным конструктором которого стал Иван Иванович Иванов. Образование КБ-4 дало новый импульс развитию всей инфраструктуры, обеспечивающей создание ракетных двигателей: производства, испытательных стендов, лабораторной базы. Освоение высококипящих компонентов топлива влекло за собой большие исследовательские работы как у себя в лабораториях и на стендах, так и в других организациях. Работа строилась в тесном сотрудничестве с НИИ, смежными КБ. При такой схеме опыт М. К. Янгеля, его знание специалистов и возможностей отрасли сыграли очень важную роль в решении возникающих проблем. Наша работа тогда характеризовалась широкой географией связей с различными предприятиями и организациями Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Львова, Воронежа, Перми, Омска, Красноярска и многих других. И в этом громадном ряду смежников (а их насчитывалось более 500) главным связующим звеном была личность Михаила Кузьмича Янгеля, его умение находить контакты с людьми всех рангов. В нашей работе был заложен стиль «дела и компетентности», и в этом стиле не было места формальному отношению к вопросу любой важности и сложности, касалось ли это уникальных агрегатов или болтов. Вся структура ОКБ, и техническая, и управленческая, строилась по этому принципу и в последующие годы она закрепилась в КБ «Южное». Успехов на пути создания ракетно-космической отрасли страны было много, и в этом немалая заслуга разработчиков ЖРД. Но в этом большом деле были и крупные неудачи. К большому сожалению, случаев таких неудач было немало и по «вине» ЖРД. Неудача, даже проблемного плана, всегда имеет конкретного виновника, и это ставило специалистов разных рангов в крайне тяжелое положение, если не сказать больше: ведь часто она определяла дальнейшую судьбу людей. И это прекрасно понимал Михаил Кузьмич. Он помогал выстоять людям, оказавшимся в такой ситуации. Высокий авторитет Михаила Кузьмича складывался из авторитета талантливого конструктора и доброжелательного человека. Михаил Кузьмич всегда старался разглядеть в человеке хорошее, доброе, да так, чтобы и человек это свое лучшее тоже увидел, поверил в себя. Эти качества особенно помогали людям, оказавшимся в «эпицентре» причины большой технической неудачи. Помню одну из крупных аварий по «вине» двигателя нашей разработки. Работала государственная комиссия с участием широкого круга различных специалистов. В своем заключении комиссия приходила к жесткому выводу о необходимости переборки ракет, уже находящихся в эксплуатации. Разумеется, что такое решение предопределяло большие материальные затраты и суровое наказание причастных к этому людей. Мы – специалисты-разработчики причину видели в другом и отстаивали мнение о возможности несложной доработки двигателей прямо на ракете. Спор в таких случаях разрешает Главный конструктор ракетного комплекса. После тщательного разбора аргументов Михаил Кузьмич решает вопрос в нашем варианте, а оставшись наедине, добавляет: «Я согласен с тобой, но ты должен представлять себе последствия, если твои предпосылки ошибочны». Решение было правильным, что подтвердилось дальнейшей эксплуатацией ракеты. За 13 лет под руководством Михаила Кузьмича двигательное КБ создало почти десяток типов ракетных двигателей. Двигатели отличались современностью решений, высокими характеристиками. Много было реализовано новых оригинальных решений и в схеме двигателя, и в его агрегатах. Так впервые были созданы двигатели с многократным включением, с управлением вдувом газа в закритическую часть сопла, с глубоким дросселированием тяги, с применением трубчатой конструкции сопла камеры сгорания, больших оборотов турбины ТНА и др. И сегодня двигательное КБ продолжает лучшие традиции, приобретенные коллективом в годы работы М. К. Янгеля, укрепляет авторитет КБ «Южное». И то, что мы в своих двигателях применяли передовые и перспективные технические решения, подтверждается сегодня фактом проявления большого интереса к нашим разработкам ряда зарубежных фирм США, Франции, Италии, Китая. С некоторыми из них мы уже имеем контракты на использование наших двигателей в их ракетных комплексах. …И вот, желая рассказать о Михаиле Кузьмиче, я рассказал о нашем коллективе. Но Михаил Кузьмич и коллектив были неразрывны, для Михаила Кузьмича коллектив был его жизнью. Сентябрь 1996 г. * * *ЯНГЕЛЬ. КЕМ ОН БЫЛ ДЛЯ НАС? Бесспорно, что как специалист М. К. Янгель всю свою жизнь был сторонником и энтузиастом жидкостной тематики в ракетной технике. Однако как Главный конструктор, как руководитель ОКБ, прогнозирующий перспективу его развития, он был обязан отслеживать все другие альтернативные варианты. В связи с этим не менее важным и весомым был вклад М. К. Янгеля в процесс становления и развития в ОКБ-586 твердотопливного направления. Опыт США по разработке крупногабаритных маршевых ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ) для ракетных систем «Поларис» и «Минитмен» показывал, что многие их качества давали существенные тактико-технические и эксплуатационные преимущества перед жидкостными ракетными двигателями (ЖРД). Энтузиасты проектного отдела еще очень молодого в ту пору (конец 50-х – начало 60-х гг.) КБ жидкостных ракет тщательно изучили и реально оценили имеющуюся информацию и пришли к выводу о необходимости развертывания работ по ракетам на твердом топливе (РТТ) в ОКБ-586. В этот период направлением по РТТ уже занимались в СССР фирмы, руководимые С. П. Королевым, М. Ю. Цирюльниковым и А. Д. Надирадзе. Михаил Кузьмич активно поддержал предложения проектантов. Уже на этапе научно-исследовательских работ (НИР) по теме РТ-20П (1961-1962 гг.), которую по поручению правительства СССР выполняло ОКБ-586, он всемерно способствовал налаживанию тесных контактов наших специалистов с разработчиками твердых ракетных топлив (ТРТ) и материалов для маршевых РДТТ. Михаил Кузьмич непосредственно занимался выбором места в Днепропетровском регионе для строительства производственной и испытательной баз РДТТ. По инициативе Главного конструктора М. К. Янгеля был проведен целый ряд организационно-структурных изменений в ОКБ-586. В результате, на уровне правительства СССР был решен вопрос о создании производственно-экспериментального комплекса в Павлограде на базе СКБ-10 артиллерийского полигона (ныне Павлоградский механический завод – ПМЗ) и химзавода № 1 (ныне Павлоградский химический завод – ПХЗ). Непосредственно в ОКБ-586 был организован проектный отдел по РТТ (днепропетровская территория, начальник отдела М. Б. Двинин), а также на базе СКБ-10 – филиал ОКБ-586, как специализированное конструкторское и испытательное подразделение по РДТТ (павлоградская территория, начальник С. Д. Бадоев). Главная задача проводимой в начале 60-х годов НИР по теме РТ-20П заключалась в оценке возможности разработки малогабаритной МБР с начальной массой не более 25 т, позволяющей создать на ее основе мобильный грунтовый БРК и тем самым обеспечить его неуязвимость. Однако вывод по результатам указанной НИР был неутешительным. Существующие характеристики ТРТ и материалов для РДТТ, систем управления и боевого оснащения не позволяли обеспечить требуемые параметры ракеты. Следовательно, переход НИР в опытно-конструкторскую работу откладывался на неопределенный срок. Ни только-только становящихся на ноги «твердотопливников», ни Главного конструктора такое положение дел не устраивало. Коллективу нужна была конкретная работа, позволяющая накопить определенный опыт и проверить свои силы и возможности. Выход был найден – предложенный проектантами вариант комбинированной ракеты требуемой массы с оригинальной конструкцией двухрежимного маршевого РДТТ на первой ступени и ЖРД на ампулизированной второй ступени получил одобрение М. К. Янгеля, а затем и союзного правительства. В течение 1963-1964 гг. был выпущен аванпроект и эскизный проект ракеты 8К99 (в том числе по твердотопливному двигателю 15Д15 первой ступени), а в 1965 г. проведены первые огневые испытания двигателя 15Д15 (в апреле – в Красноармейске и в сентябре – в Павлограде). Положительные результаты указанных испытаний окончательно убедили Михаила Кузьмича в жизнеспособности твердотопливного направления и целесообразности его существования в ОКБ-586. Главный конструктор в этот период времени (1964–1966 гг.) провел ряд кадровых мероприятий, направленных на укрепление подразделений твердотопливной тематики: формированными темпами проводился набор молодых специалистов, на павлоградской территории в 1964 г. было создано новое подразделение – КБ-5 во главе с Георгием Демьяновичем Хорольским. И, наконец, в первом квартале 1966 г. павлоградское КБ-5 было преобразовано в проектно-конструкторское бюро, в котором были объединены специалисты по твердотопливной тематике обеих территорий: днепропетровской (проектанты) и павлоградской (конструкторы и испытатели). Возглавил новое КБ-5 Владимир Иванович Кукушкин. В том же году по поручению М. К. Янгеля из Павлограда в Днепропетровск в была переведена группа ИТР с предоставлением жилья, организовано регулярное транспортное сообщение и установлена стабильная телефонная связь между двумя территориями. После этого коллектив КБ-5 заработал как хорошо отлаженный механизм. В кратчайшие сроки был проведен большой объем наземной экспериментальной отработки двигателя 15Д15, который позволил начать в октябре 1967 г. летные испытания ракеты 8К99. К сожалению, ровно через два года, в октябре 1969 г., несмотря на подавляющее количество успешных пусков, постановлением правительства дальнейшая разработка этого комплекса была прекращена. Весь коллектив КБ-5 был в шоковом состоянии – казалось, что этот неудачный финал по созданию первого в ОКБ-586 крупногабаритного маршевого РДТТ будет концом существования КБ-5. И снова в этом вопросе проявилась мудрость и прозорливость Главного конструктора – он сумел сориентировать наше предприятие на решение новой глобальной задачи: создание твердотопливной МБР стационарного базирования с шахтным вариантом старта. Еще при жизни Михаила Кузьмича коллектив КБ-5 совместно с другими подразделениями КБ «Южное» и смежными организациями (ЛНПО «Союз», НПО «Алтай», КТБ, НИИграфит, ИМП и др.) разработал и испытал серию модельных и опытных РДТТ, а также приступил к стендовой отработке натурного крупногабаритного маршевого РДТТ первой ступени (двигатель 15Д122) для ракеты РТ-22. К сожалению, эта тема также вскоре была свернута. Полученный экспериментальный задел послужил в будущем основой для создания совершенных, не уступающих лучшим зарубежным образцам, крупногабаритных маршевых РДТТ: – двигателя 3Д65 первой ступени ракеты 3М65 морского базирования; – двигателя 15Д206 первой ступени и двигателя 15Д290 второй ступени ракеты 15Ж61 наземного подвижного базирования (БЖРК); – двигателя 15Д305 первой ступени и двигателя 15Д339 второй ступени ракеты 15Ж60 наземного стационарного базирования (ШПУ типа ОС). В условный «период застоя» для маршевых РДТТ (конец 60-х – начало 70-х гг.) М. К. Янгель, понимая пагубность такой паузы для коллектива КБ-5, поручил нам разработку ряда узлов для трех жидкостных МБР: 15А14 (тяжелого типа), 15А15 и 15А16 (легкого типа). Так был создан новый класс твердотопливных двигателей – управляющих РДТТ боевых ступеней с РГЧ, а также большая номенклатура малогабаритных энергетических установок: аккумуляторов давления в системе минометного старта, различных газогенераторов, двигателей отделения и увода узлов и элементов пиротехники. КБ-5 успешно справилась с этой задачей. Следует отметить пристальное внимание, которое уделял Главный конструктор этому направлению. Тридцать лет нет с нами Михаила Кузьмича, но его идеи, проектные наработки продолжают жить в созданных конструкторским бюро «Южное» совершенных стратегических ракетных комплексах, в том числе твердотопливных. Скажем откровенно, что только благодаря активному участию Главного конструктора М. К. Янгеля КБ «Южное» смогло по твердотопливной тематике создать такие ракетные комплексы, которые по своему совершенству превосходят и отечественные, и зарубежные аналоги. Октябрь 2001 г. * * *
Леонид Алексеевич ГРИБАЧЕВ, ЯНГЕЛЬ КАК ИСПЫТАТЕЛЬ В КБ «Южное» комплекс летных испытаний и курирования спецсистем работал со многими смежными организациями: по системе управления, телеметрии, наземному технологическому оборудованию, электроснабжению и др. Поэтому мы всегда чувствовали то особое внимание, которое М. К. Янгель уделял созданию кооперации разработчиков ракетного комплекса как союза единомышленников. Он считал, что четкая и слаженная работа кооперации разработчиков – залог успеха всего дела, поэтому зачастую, даже как бы в ущерб собственным интересам КБЮ (по массам, габаритам, нагрузкам и др.), требовал удовлетворения потребности смежников в наилучших условиях работы их систем и агрегатов. В 1957 году ОКБ-586 приступило к разработке ракеты Р-16. Необходимо было найти разработчика системы управления. М. К. Янгель понимал, что для украинского «куста» нужно иметь «своего» смежника по системе управления в Украине (поближе), так как предприятие п/я А-1001 работало в основном с Главным конструктором С. П. Королевым. По настоянию Михаила Кузьмича в Харькове было организовано ОКБ-692 специально для разработки систем управления для наших ракет. Об истории создания и отработки ракеты Р-16 написано много. Мне пришлось работать с этой ракетой на заключительном этапе отработки, но уже в следующей разработке – ракеты Р-36 (8К67) – я участвовал с самого начала. Михаил Кузьмич сказал однажды в интервью журналистам: «Мало спроектировать ракету, надо научить ее летать». Последнее относилось к нашему отделу летно-конструкторских испытаний. Мы начали с участия в отработке системы управления на комплексном стенде в Харькове, где провели около года. Михаил Кузьмич часто приезжал в Харьков и интересовался ходом отработки. Вспоминается один из его приездов, когда Главный конструктор В. Г. Сергеев отказался управлять некоторыми технологическими системами как не относящимися к СУ ракеты. Михаил Кузьмич сумел быстро его переубедить. После отработки СУ на комплексном стенде – заводские испытания и, наконец, первый пуск. На первые пуски Михаил Кузьмич обязательно приезжал сам как технический руководитель испытаний. На этом пуске присутствовал и В. Г. Сергеев. 28 сентября 1963 года состоялся первый пуск ракеты 8К67 с наземного старта (площадка 67). Я находился в составе пусковой команды, которая приводила в готовность СУ к пуску в подстольном помещении и по десятиминутной готовности переходила в бункер. Когда мы пришли в бункер, там были Михаил Кузьмич и много руководителей промышленности и военных специалистов, которые столпились у пульта пуска. Михаил Кузьмич подошел к ним и сказал, чтобы они отошли и дали работать пусковой команде. И вот – команда «Пуск!» и доклад: «Есть контакт подъема», и в тот же момент − доклад наблюдающего пуск в перископ: «Ракета упала». После этого раздался взрыв, с потолка посыпалась штукатурка. И тогда я удивился спокойствию Михаила Кузьмича, в отличие от некоторых он не проявил никакой нервозности и растерянности. Он медленно отошел от пульта и встал возле стенки. Когда генерал Н. Н. Смирницкий предложил срочно покинуть бункер, пока выходы не залило компонентами топлива, Михаил Кузьмич в обычной спокойной манере сказал, что нужно двух человек обеспечить защитными средствами и проверить возможность выхода из бункера. Это было сделано. К нашему счастью, один из выходов оказался свободным от паров компонентов, и мы вышли из бункера. Помог ветер, отгонявший коричневую «стену», которая, как нам показалось, стояла рядом и простиралась до самого неба. Первой реакцией было, что причиной аварии является СУ. Однако потом было установлено, что причиной аварии было возгорание ракеты на пусковом столе из-за ошибки в конструкции газовыводящих каналов пускового стола. Главный конструктор стартового комплекса В. П. Петров был отстранен от занимаемой должности. Встал вопрос о доработке газоходов. Эта доработка требовала больших материальных затрат и времени, так как под пусковым столом были подстольные помещения с пусковым оборудованием. Правительство торопило с отработкой комплекса. Нужно было искать выход из создавшейся ситуации. Михаил Кузьмич принимает решение: в кратчайшие сроки обеспечить защиту трубопроводов хвостового отсека ракеты от отраженных газов и после восстановления стартового комплекса продолжить испытания. Успешный пуск 3 декабря 1963 года и последующие пуски подтвердили правильность решения, принятого Михаилом Кузьмичом. Это только один из эпизодов. Было много и успехов, и неудач. И всегда Михаил Кузьмич проявлял себя как выдающийся организатор, ученый, конструктор, а для нас − еще и испытатель. Ракета 8К67 была успешно сдана на вооружение и явилась базовой ракетой КБ «Южное» на долгие годы. Октябрь 2001 г. * * *
Александр Федорович ГРИШИН, РЕШАТЬ ВМЕСТЕ, НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЯ ДРУГ НА ДРУГА Моя первая встреча с М. К. Янгелем состоялась при решении технических вопросов. Я был тогда в должности старшего инженера. Было это так. У нас на предприятии проводилась увязка узлов В. П. Глушко с темами 64, 65. Группу нашего предприятия возглавлял Л. А. Берлин, а группу предприятия В. П. Глушко – М. Р. Гнесин. В течение нескольких дней была проведена большая работа, но по некоторым вопросам обнаружился противоположный подход к их решению. Группы Берлина и Гнесина, мягко говоря, разошлись во мнениях, руководители групп находились на грани личных оскорблений. Было принято решение выходить к М. К. Янгелю. Поздно вечером разгневанные Берлин и Гнесин со своими помощниками явились к М. К. Янгелю. Михаил Кузьмич, как мне показалось, уже по первым «емким» словам Льва Абрамовича понял если не техническую суть разногласий, то почувствовал психологический климат, сложившийся в группах. Прервав Л. А. Берлина, Михаил Кузьмич неожиданно начал излагать, что означают для нашей страны разработки 8К64, 8К65. Говорил долго, подробно и завершил примерно так: «Если эти изделия так важны для страны, то мы должны все вместе прежде всего искать решение технических вопросов, а не стараться перекладывать их решение с одной организации на другую». И самое главное, что мне запомнилось: М. К. Янгель неоднократно подчеркнул, что «мы» – это все организации, участвующие в разработке, а предприятие Главного конструктора отличает только наибольшая ответственность за своевременность сдачи изделия Заказчику. Такой подход к работе смежных организаций я запомнил навсегда и им руководствуюсь постоянно. Должен доложить, что благодаря такому подходу между нашим предприятием и организациями по измерительной технике сложились деловые, дружеские отношения, которые неоднократно помогали нам при решении срочных, внеплановых проблем по обеспечению телеизмерений, особенно при аварийных ситуациях. Для М. К. Янгеля как Главного конструктора было характерно острое чувство нового, прогрессивного, умение провести в жизнь свои идеи. Запомнился такой случай. До некоторых пор исследованием вибрационных процессов, происходящих на наших изделиях, занимались нерегулярно случайные люди, причем использовались теоретический и экспериментальный заделы, полученные в других отраслях. Начальник отдела Н. Н. Жуков неоднократно обращал внимание Л. А. Берлина, В. А. Концевого, Л. В. Васильева на неудовлетворительное положение в вопросах измерения вибрации, но не находил должной поддержки. Так продолжалось длительное время, пока не была написана соответствующая докладная на имя М. К. Янгеля. В течение короткого времени в отделе была создана лаборатория по измерению вибраций, обращено внимание на необходимость анализа вибрационных воздействий на всех этапах экспериментальной отработки изделий. Разработанный нашими специалистами метод исследования вибрационных процессов скоро вышел из стен нашего предприятия и нашел отклик в смежных организациях отрасли, а также в организациях Заказчика. Создается несколько отделов по разработке измерительной аппаратуры в НИИ, у Заказчика – отделы обработки и анализа вибраций, подключаются несколько академических и учебных институтов к решению теоретических проблем по вибрациям. Другими словами, я считаю, что М. К. Янгель своим подходом к решению проблемы по вибрациям предопределил те достижения, которые сейчас получены по измерительной аппаратуре, аппаратуре обработки и анализа результатов измерения вибраций, причем не только в нашей организации, а в целом по отрасли. Второй пример. С ростом интенсивности разработок изделий возрастали роль системы измерения, ее объем, необходимость полной и качественной обработки результатов измерений, а также оперативного представления этих результатов проектантам и конструкторам. Начальнику отдела Б. Е. Хмырову было достаточно всего одного разговора на эту тему с М. К. Янгелем. Была получена полная поддержка: сначала письмо на имя министра С. А. Афанасьева на поставку аппаратуры «Лотос-3А» с соответствующими капитальными вложениями, а затем и личный контакт по этому вопросу М. К. Янгеля с С. А. Афанасьевым. Поэтому мы вправе считать Михаила Кузьмича отцом новой технологии в организации измерений на базе аппаратуры типа «Лотос». При этом, по моему глубокому убеждению, если бы наше предприятие не имело «Лотоса» к моменту начала испытаний по ракетам 15А14 и 15А15, то оно не смогло бы их сдать в директивные сроки. Теперь ни у кого не вызывает сомнений необходимость развития такого направления в организации обработки и анализа телеизмерений на предприятии Главного конструктора. Иллюстрация этому – создание ЦОТИ на территории предприятия. И, более того, как мне известно, наши достижения в организации сбора, в передаче, обработке и в представлении измерительной информации вызывают уважение на предприятиях, аналогичных нашему. Летом 1959 года сложная ситуация, как техническая, так и моральная, возникла в секторе Адегова, входящего в состав отдела Н. Н. Жукова. Резко выросли объем работ, численность и квалификация личного состава. Достаточно сказать, что в то время в секторе работали молодые энергичные В. А. Супруненко, В. И. Баранов, Б. Е. Хмыров, В. В. Брикер, В. И. Заерко, В. Н. Дедюшко, В. Д. Кудин, В. А. Кондаков и другие. Созрела необходимость раздела сектора. Для обсуждения будущей структуры подразделений было созвано общее собрание сектора, на котором присутствовал М. К. Янгель (вот было время!). Собрание началось в 17.00 и до 20.00 продолжалось обсуждение, как делить работу – вдоль или поперек. Только в одиннадцатом часу ночи, когда все уже выдохлись, слово взял Михаил Кузьмич. В двух-трех фразах, поляризовав все мнения и отметив достоинства и недостатки каждого из двух основных направлений, Главный конструктор здесь же и принял решение о разделе сектора. Запомнилась форма, в которую Главный конструктор облек свое решение (не дословно, но по смыслу): «Давайте сделаем так. Может быть, я ошибаюсь и это не лучший вариант. Тогда через пару лет мы вернемся к этому и сделаем наоборот». Остается добавить, что жизнь подтвердила правильность предложенной Михаилом Кузьмичом схемы. По роду своей работы я, в основном, находился у Заказчика, так как вибрации и пульсации зачастую бывали первопричинами плохих исходов. Много раз встречал М. К. Янгеля в неприятных ситуациях. С моей точки зрения, поведение Михаила Кузьмича в неприятных ситуациях было обычным, человеческим. Видел и раздражение, и удовлетворение, но все носило сдержанный, умеренный характер. Например, после работы с одним из изделий через небольшой промежуток времени была назначена Государственная комиссия, на которой должны были докладывать П. И. Никитин, Б. С. Дробязко и я. Из-за недостатка времени доклады получились невразумительными. Первым, кто это понял, был М. К. Янгель. Он открыто перед Госкомиссией признал нашу неготовность к решению вопросов по изделию и, извинившись, попросил перенести совещание. При этом взял часть вины на себя. После этого он «выдал» нам всем на простом русском языке вперемежку с техническими указаниями и поручил ночную работу. Наутро мы доложили результаты и предложения. М. К. Янгель выслушал, сказал: «Теперь хорошо!». Один пример из моих встреч по работе с Михаилом Кузьмичом, характеризующий его как руководителя, который может изменить свое решение, войдя в положение подчиненного. Было так. Я уже был заместителем начальника отдела. На один из летних месяцев, когда Б. Е. Хмыров был в отпуске, выпало: с одной стороны – неудачные работы с изделием 8К69, с другой – необходимость проведения большого сокращения штатов (по отделу – 10 человек). От Заказчика Михаилу Кузьмичу поступила жалоба, что не обеспечены работы по вопросам отделов, где начальниками Б. Е. Хмыров и И. М. Игдалов. Мы с Игдаловым были немедленно вызваны к М. К. Янгелю. Он с порога встретил нас резкими словами и приказал обоим лично отбыть на полигон. Я еще никогда не видел Михаила Кузьмича в таком раздражении, и казалось, что мне даже нецелесообразно возражать ему. Но сокращение?! И я рискнул возразить, что не могу выполнить его приказ, так как выполняю работу, которую как и. о. начальника отдела не могу перепоручить другому. Он с удивлением выслушал меня. Узнав о причине, он остановил меня, усадил и спокойно начал беседу о моральной сложности сокращения, о необходимости его, а закончил некоторыми советами (в частности, посоветовал некоторым товарищам воспользоваться сокращением для поступления в аспирантуру). Его советы мне весьма пригодились – сокращение обошлось без трагедий. Май 1991 г. * * *
Георгий Демьянович ХОРОЛЬСКИЙ, УЧИТЕЛЬ, ОПРЕДЕЛИВШИЙ МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ Время летит неумолимо быстро, заметая в памяти, к горькому сожалению, многие следы прожитых лет. Но общение с Михаилом Кузьмичом Янгелем оставило неизгладимые и волнующие впечатления на всю жизнь. Моя первая встреча с Михаилом Кузьмичом произошла в 1954 г. при не совсем обычных обстоятельствах. По переводу из аспирантуры Ленинградского военно-механического института я приехал в августе этого года в Днепропетровск на бурно растущий ракетный завод п/я 186 и создаваемое ОКБ-586, Главным конструктором которого был назначен М. К. Янгель. На приеме при поступлении на завод заместитель главного инженера завода Каспиев, познакомившись со мной, позвонил Михаилу Кузьмичу и порекомендовал принять меня на работу в КБ, учитывая мои характеристики. Я возражал, отдавая приоритет производству. Тем более что мои однокурсники были направлены на завод. Тот день, когда я попал на прием к Главному конструктору, надолго остался у меня в памяти и до сих пор очень ярко вспоминается. Это было вечером. В кабинете у Главного было неяркое освещение. Из-за стола поднялся представительный мужчина, поздоровался за руку, усадил в кресло. С первого же мгновения пребывания у него почувствовал исключительную сердечность и теплоту, с которой разговаривал со мной Михаил Кузьмич. После расспросов предложил мне работать в ОКБ. Я опять в продолжение той же принципиальной линии категорически отказался. Михаил Кузьмич убеждал меня, спокойно расхаживая по кабинету. Ну а потом предложил должность своего заместителя, от чего я, естественно, отказался. «Ну, − говорит, − я так и знал. Тогда давайте договоримся: Вы два-три месяца поработаете в КБ, а потом примем решение». Михаил Кузьмич позвонил Л. А. Берлину и В. Н. Лобанову. Меня загрузили конструкторской работой с ног до головы. Два месяца пролетели как несколько дней. Я уже забыл о разговоре, который был с Михаилом Кузьмичом. Вдруг меня приглашают к нему. Захожу, и Михаил Кузьмич, без вступления: «Так как будем решать вопрос с Вами? Вот у меня есть рекомендации. Наверное, целесообразно, учитывая, что Вы были связаны с производством, где у Вас успешно идут дела, продолжить начатую конструкторскую работу, а потом, по мере надобности, возвратимся к этому вопросу». Практически с самого начала мне пришлось вести «королевские» изделия в цехах завода 25, 33 и других. Быстро пролетело время, и о возврате на производство уже речи не могло быть, потому что все, что мы делаем – каждую деталь, каждую конструкцию, – очень скрупулезно отрабатывали в производстве. Короче, втянулся и остался работать в ОКБ в конструкторском отделе. Через некоторое время, в 1956 г., М. К. Янгель пригласил меня к себе и предложил новую должность – начальника группы ведущих конструкторов по всем изделиям С. П. Королева, которые вели тогда ОКБ и завод. После прекращения работ по этим изделиям в 1958 г. я был назначен начальником сектора в конструкторском отделе В. Ф. Уткина. В 1960 г. в связи с необходимостью создания экспериментальной базы для отработки своих ракетных комплексов Михаил Кузьмич предложил мне перейти на должность заместителя начальника создаваемого отдела 16, предназначенного для комплексной предполигонной отработки ракет и систем и возглавляемого М. И. Дуплищевым, сподвижником Михаила Кузьмича. Через некоторое время я стал начальником этого отдела. Работать приходилось с упоением с утра до ночи. Самое главное – вводить в эксплуатацию многочисленные стенды для проверки работоспособности и отработки ракет, их систем и узлов, что было успешно осуществлено. В конце 1963 г. я снова был вызван к Михаилу Кузьмичу, который предложил мне новую работу – начальником КБ в Павлограде. КБ должно было заниматься разработкой твердотопливных двигателей. Так я попал в СПО-8, нынешний ПМЗ. Приведенных примеров, думаю, достаточно, чтобы обратить внимание на исключительные способности Михаила Кузьмича к работе с кадрами (в данном случае в моем лице), обеспечению выполнения требуемых работ, внедрению новых направлений в творческой деятельности коллектива (твердотопливные ракеты, минометный старт и т. д.). В 1955-1956 гг. мне доводилось взаимодействовать с М. К. Янгелем как секретарю комсомольской организации ОКБ. Ни одна моя просьба и обращение к Михаилу Кузьмичу не оставались безответными. Он всячески поддерживал комсомольский порыв по наведению порядка в городе (комсомольские рейды, дружины), организации художественной самодеятельности, концертов, вечеров отдыха и т. п. До сих пор помню наши выступления с участием артистов города во Дворце культуры железнодорожников, где проводились викторины и кружились в танцах сотрудники и руководители, включая Главного конструктора М. К. Янгеля и директора завода Л. В. Смирнова. В канун 90-летия со дня рождения Михаила Кузьмича я преклоняюсь перед этим большим человеком, выдающимся конструктором и ученым, светлая память о котором будет долго жить в наших сердцах. Сентябрь 2001 г. 
|