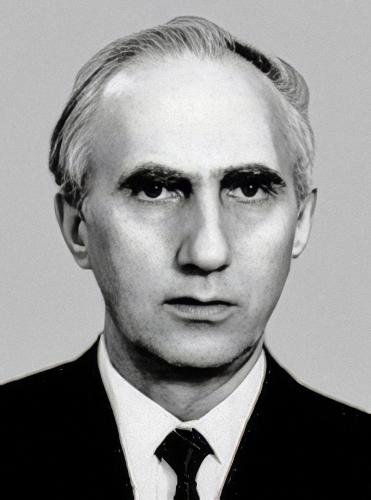|
|
|
|
|
|
|
|
|
Под общ.ред. А.В.Дегтярева
Днепропетровск 2011
Наш адрес: ruzhany@narod.ru |
|
На этой странице сайта:
* * *
Вячеслав Михайлович КОВТУНЕНКО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ – БОРЬБА В 1951 году группа конструкторов во главе с В. С. Будником уехала на «периферию», так называли тогда наш завод. В то время это была действительно периферия – небольшой завод; здесь переход на новую технику только начинался, выпускали продукцию по чертежам нашей московской организации. И все-таки мне очень хотелось поехать туда. Однако меня не отпустили. Только в 1953 году, воспользовавшись командировкой нашего руководителя, я быстро оформил все необходимые документы и оказался здесь. Приятно удивили и небывалый энтузиазм работников небольшого КБ, и новые идеи. Сразу же взялись за их выполнение. Начали с поисков материалов. Экспериментировали, спорили, доказывали, проверяли и перепроверяли. Хотелось ощутить душу новой машины, ее характер, понять, что от чего зависит, то есть понять «идеологию», как это принято сейчас называть. Просмотрели несколько вариантов. Лучшие из них заказчики сразу приняли. Начали воплощать идеи в металл. Несколько раз к нам приезжали высокие руководители, и нам было что им показать. Они одобрили нашу работу. В 1954 году меня назначили начальником проектного отдела. Костяк отдела составили Н. Ф. Герасюта, Ф. И. Кондратенко, П. И. Никитин, М. И. Кормильцев, Э. М. Кашанов. Колоссальную поддержку оказали нам Л. А. Берлин, В. Н. Лобанов, Л. М. Назарова, И. М. Рябов, В. А. Концевой и другие. Мы шли по новому пути, а в таких случаях всегда бывают и «попутчики» и «противники». Последних было куда больше, чем нам этого хотелось. Мы были молоды и потому, наверное, ничего не боялись – шли напролом. И вот первая работа. Сергей Павлович Королев сказал: «Первая работа – это еще не работа. Посмотрим, что будет дальше». Но наш молодой коллектив, окрыленный первыми успехами, верил в свои творческие силы и вступил в решающую борьбу за развитие выбранного направления. С особой страстью борьба разгорелась при защите эскизного проекта нашей второй работы – темы 64. Решался вопрос в принципе: быть или не быть нашему направлению. Рассмотрение эскизного проекта проходило на высоком уровне с привлечением крупных ученых и специалистов. Защита прошла успешно, но главное было впереди, так как нашим конкурентам было поручено делать аналогичную машину. Свою машину мы создавали с удвоенной, утроенной энергией. В 1961 году тема 64 была сдана Заказчику. Со сдачей ее окончательно утвердилось наше направление на ближайшее время. Утвердился и наш молодой творческий коллектив. Но на этом борьба не закончилась, резко возросло творческое соревнование за развитие нового направления. Как-то на рыбалке мы разговорились с Михаилом Кузьмичом о наших делах. «Давай не отвлекаться, Вячеслав Михайлович, текущими делами у нас уже есть кому заняться, − сказал Михаил Кузьмич, − надо серьезно заняться перспективой». И мы начали думать о завтрашнем дне. На одном из совещаний у Михаила Кузьмича после проведенных исследований были рассмотрены несколько вариантов будущих машин. Мы их отнесли ко второму поколению наших изделий, а первые решено было перевести для выполнения научных и народнохозяйственных задач. Казалось, теперь уже все позади – открывается широкая перспектива и никто не сможет помешать спокойно работать, но не тут-то было. На горизонте неожиданно появилась новая фирма, также желающая заняться новым направлением. Разгорелась борьба. Особенность ее заключалась в том, что предлагаемые ими машины были такого же класса, что и наши. Дальнейшие события показали, что наши темы были приняты Заказчиком, а работы конкурентов по теме 200 были приостановлены. Одновременно с развитием основного направления в проектных подразделениях проводились большие работы по выяснению перспектив принятого направления, а также по поискам новых направлений. В конце 50-х – начале 60-х годов наметились принципиально новые направления, элементы которых в настоящее время развиваются в КБ-3 и КБ-5. И вот более 10 лет эти направления, теперь уже внутри предприятия, борются за свое существование. Вспоминая историю нашего становления, нельзя не сказать о большой роли, которую сыграл М. К. Янгель. Михаил Кузьмич, несмотря на нашу общую молодость, всегда исключительно доверял нам и позволял вести творческие поиски, поощряя их. В мелочах он никогда не опекал, давал всем свободу действий, но линию свою держал уверенно. Михаил Кузьмич позволял высказывать различные мнения, даже если они не совпадали с его мнением. «Но если уж решение принято, если тебе поручено определенное дело, – любил говорить Михаил Кузьмич, – то, будь добр, выполняй поручение и отвечай за него по самому высокому счету». Это доверие Михаила Кузьмича всегда окрыляло, способствовало росту молодых и вырабатывало ответственность, самодисциплину в наших делах. Только так и нужно работать. И если молодой инженер хочет стать настоящим конструктором, он должен творить, дерзать и бороться, отстаивая свои идеи, какими бы фантастическими и невероятными эти идеи не казались другим. Из газеты «Конструктор», апрель 1974 г. * * *
Николай Федорович ГЕРАСЮТА, ДВА ПОДХОДА К ДОСТИЖЕНИЮ УСПЕХА Так уж сложилось, что вся моя трудовая деятельность прошла в одной отрасли техники. За это время пришлось работать, лично и довольно близко быть знакомым с Сергеем Павловичем Королевым и Михаилом Кузьмичом Янгелем. Эти два человека имеют много общего, их объективные данные одинаковые: оба академика, дважды Герои Социалистического Труда, лауреаты Ленинской и Государственной премий, оба были облечены большим доверием государства, плодотворно руководили работой громадных коллективов, находились на переднем плане науки и техники новой отрасли. Вместе с тем каждый из них обладает своей неповторимой индивидуальностью, субъективными качествами, своей методологией решения вопросов, формой обращения с подчиненными всех рангов. Моя первая встреча с Королевым состоялась в Германии, в середине 1946 года. Человек небольшого роста, с широкими опущенными плечами, проницательным взглядом глубоко посаженных глаз, и, хотя он в форме полковника, было видно, что это сугубо штатский человек. Но вот когда он заговорил, то и тональность голоса, и манера разговора показывали, что это командир большого ранга, привыкший отдавать приказы и не сомневающийся, что им подчиняются. Более близко я узнал Сергея Павловича во время работы в возглавляемом им отделе, а затем ОКБ, уже в Подлипках. Его характерная черта стиля работы и руководства людьми: при формировании стратегии решения вопросов он советовался с очень большим числом подчиненных ему работников (если не со всеми), причем индивидуально. Говорят, что содержание этих бесед записывал, а затем на досуге изучал. После этого он формировал собственное мнение. И совещания, которые проводились по выбору стратегии, превращались не в сбор и обсуждение предложений, а в апробацию сформированного Главным конструктором и, как правило, опровержение других предлагаемых вариантов. А когда линия была выбрана и обнародована, то проводилась в жизнь неуклонно, и все попытки изменить ее вытравлялись «каленым железом». Его отличала требовательность вплоть до выхода за нормы жесткости. Такая требовательность к строгому выполнению принятых решений создавала впечатление об отсутствии гибкости, о жесткости Королева, но с учетом ответственности, с которой готовилось решение и колоссального объема подготовительной работы, такой подход оправдывал себя. С другой стороны, Королев был очень внимательным и чутким руководителем. Когда к нему обращались за помощью работники любого ранга, он очень тщательно относился к просьбе и практически всегда находил возможность ее удовлетворить. Вспоминается один такой случай. Заболел ребенок, и необходимо было повезти его в Москву на консультацию, а дело было зимой, стояли сильные холода. Нужна была машина. Обратился к Королеву. Он выслушал, задумался и сказал: «Это же тебе нужна теплая машина. У нас такая одна. Так, я завтра приеду к девяти. Еще полчаса машина нужна будет. А вот в девять тридцать позвони такому-то, и он даст тебе мою машину». Даже в этом, чисто житейском вопросе чувствуется его система: уяснить сущность вопроса, оценить, может ли сделать и как, и, наконец, четко формулируется решение. Королев не ограничивался работой с заместителями, а широко привлекал руководителей и инженерный состав к обсуждению частных вопросов. Строго требовал от всех глубокого знания сущности, конкретности и обоснованности предложений, не терпел неоднозначности высказываний. Обладал колоссальной работоспособностью. Не помню случая, чтобы он уходил с работы не последним. Годы работы у Королева для всех его сотрудников явились большой школой науки преодоления белых пятен в новой технике. Справедливость ради следует отметить, что выработанный им и железно проводимый в жизнь курс на использование низкокипящих компонентов, как оптимальное направление развития нашей техники, создал немало помех в развитии нашего КБ «Южное». Мое первое знакомство с М. К. Янгелем состоялось в 1951 году, еще при работе в ОКБ Королева, куда Михаил Кузьмич был назначен заместителем Главного. Запомнилось его умение быстро входить в существо технических вопросов, четкость принимаемых решений, мягкость и тактичность в обращении и, особенно, личное обаяние. Именно эти качества позволили Михаилу Кузьмичу – новому человеку в уже сложившемся коллективе, в новой отрасли техники – быстро и эффективно включиться в производственный процесс. Запомнились также яркие выступления Михаила Кузьмича на партийных собраниях в ОКБ С. П. Королева: отточенность формулировок, принципиальность в постановке вопросов, конкретность предложений, умение заинтересовать аудиторию, что немало способствовало росту его авторитета и популярности в коллективе. Второй этап контактов с Михаилом Кузьмичом – совместная работа в нашем КБ с момента назначения его Главным конструктором в 1954 году и до конца его жизни. Должен сказать, чем больше знакомился с ним, тем большей симпатией и уважением проникался к нему как руководителю и как к человеку. Если попытаться на основе всего многообразия наблюдений оценить деятельность Михаила Кузьмича, выделить основные факторы, предопределившие эффективность работы в КБ под его руководством, то следует особо отметить два элемента, два природных дара, которыми безусловно обладал Михаил Кузьмич. Одним из них являлась способность из суммы противоречивых предложений скомпоновать правильное решение. Михаил Кузьмич отчетливо представлял, что в нашей технике одиночка бессилен, только совокупными усилиями специалистов всех профилей можно охватить все стороны стоящей проблемы, будь она технической или организационной. Отсюда схема решения задач: детальная проработка всеми заинтересованными подразделениями – совместное обсуждение – принятие решения. Как правило, Михаил Кузьмич давал возможность участникам совещания высказать все соображения, внимательно слушал, не вмешивался в дискуссию (существует подозрение, что он приходил на совещания без подготовленного даже в общих чертах решения), задавая вопросы только в плане уточнения отдельных положений, и только в заключение формулировал решение. Это решение зачастую бывало неожиданным для участников совещаний, но зато всегда правильным (в памяти не сохранилось примера пересмотра принципиального решения). Другой определяющий фактор – тактичность, коммуникабельность, личное обаяние Михаила Кузьмича, позволявшие ему устанавливать контакты, находить общий язык, подчинять интересам дела людей всех чинов и рангов, многочисленные коллективы разработчиков. Уже сама манера обращения, внешность Михаила Кузьмича неизменно вызывали расположение к нему. Внимательность к собеседнику, мягкость в обращении, широкая дружелюбная улыбка вызывали желание сделать все и наилучшим образом. Из отдельных эпизодов характерным является реакция Михаила Кузьмича при неудачной работе в октябре 1960 года. Во время пожара он, пренебрегая опасностью, оказывал помощь пострадавшим. В результате психологической и физической перегрузки сам слег в постель. Но необходимо организовывать продолжение работ – Михаил Кузьмич снова на ногах, собран, дает четкие указания, распоряжения. Умение в трудную минуту эффективно мобилизовать все свои силы и способности всегда были присущи Михаилу Кузьмичу. Прошло десять лет без Кузьмича, но та школа жизни, которую мы прошли вместе с ним, та частица души, которую он оставил в каждом из нас, сохраняют память о нем, память о настоящем человеке. У Янгеля методология решения вопросов была совершенно другая, чем у Королева. При разработке стратегии предварительного изучения как будто не было. Собиралось совещание, формулировался вопрос, все высказывались. Затем, заслушав все выступления, Янгель формулировал решение. Часто оно было совершенно неожиданным для большинства, но зато всегда правильным. На первых порах создавалось впечатление, что он совершенно не имеет мнения и не знает сущности вопроса, и только благодаря своим интеграционным способностям выявлял основное. Но это только казалось: Михаил Кузьмич имел свое мнение и только резервировал возможность корректировки его в случае, если кто-то предложит лучший вариант. К выбранной стратегии подходил диалектически, не считал зазорным, при конкретно складывающихся обстоятельствах, корректировать ее. Очень характерный штрих. Оставляя сотрудника за себя, он требовал, чтобы по всем возникающим вопросам принимались решения. Янгель говорил: «Пусть ты в 10 процентах случаев ошибешься, время тебя поправит, но вопросы не могут оставаться нерешенными. Они будут искать обходные пути, создадут неуправляемый поток и выйдут из-под контроля». Янгель, как правило, всегда полностью доверял своим сотрудникам. Если совершался промах – помогал разобраться в причинах и поисках мер по исправлению положения, привлекая к этому процессу и других, используя практический случай, как средство воспитания технической и организационной зрелости. Взыскания применялись лишь как экстраординарная мера. Михаила Кузьмича отличала высокая принципиальность и честность, обязательность в выполнении данных обещаний; того же требовал от сотрудников. При встрече с попыткой искажения истины он преображался: вдруг исчезали дружелюбие и мягкость, откуда-то появлялись резкие, убийственные слова. На вторую попытку ни у кого желания не возникало. Может быть, благодаря этому в коллективе выросла целая плеяда специалистов высшей квалификации, которая сегодня осуществляет продолжение его творческой линии. Михаил Кузьмич был очень общительным человеком, и с ним было легко и просто, каждый чувствовал себя непринужденно: неистребимый оптимизм, тонкий юмор позволяли поддерживать хорошее настроение. На отдыхе любил рыбалку (независимо от результата), иногда играл в преферанс, ему не были чужды и другие мужские развлечения, доступные в командировке. Озираясь назад, хочется с удовлетворением отметить, что семнадцатилетний совместный труд оставил только приятные воспоминания о Большом человеке, Большом руководителе, старшем товарище Михаиле Кузьмиче Янгеле. Октябрь 1986 г. * * *
Владимир Федорович УТКИН, ЗАЛОГ УСПЕХА 1954 год. Партией и правительством принято постановление об организации нового конструкторского бюро с задачами создания новых образцов техники на базе крупного серийного завода и серийного КБ. Началось становление ОКБ. 22 июня 1954 года было избрано партийное бюро в составе: В. Ф. Уткин – секретарь, В. В. Грачев, В. С. Морозов, И. И. Щукин, В. С. Будник – члены партбюро. На учете состояло 80 членов КПСС и пять кандидатов в члены КПСС. Образование самостоятельного предприятия – ОКБ-586 – потребовало от партийного бюро перестроить свою работу в соответствии с новыми условиями. Моя встреча (секретаря партийного бюро) с Михаилом Кузьмичом состоялась в комнате партийного бюро в день его приезда на завод и произвела на меня большое впечатление. Михаил Кузьмич живо интересовался состоянием дел. Он как-то сразу почувствовал, что было наиболее тревожным и трудным в тот период. У меня сложилось впечатление, что он заполняет новой информацией какие-то свободные ячейки хорошо разработанной, продуманной схемы создания новой организации. Узнав об основном пополнении КБ молодыми специалистами из различных вузов страны, Михаил Кузьмич, кажется, уже тогда принял решение, о котором он доложил на отчетно-выборном партийном собрании 21 июня 1955 года и которым неуклонно руководствовался в дальнейшем: «У нас в КБ много молодежи, нужно без потери времени привлечь молодежь к освоению изделий и выполнению поставленных нами задач». В этой кропотливой работе с молодежью Михаил Кузьмич был очень принципиален и чуток. Прежде чем провести назначение, он тщательно взвешивал все за и против, много советовался, иногда отказывался от данного им же предложения о назначении или переводе. Мне казалось, что эти консультации со мной как секретарем партбюро при подборе кадров были характерны для первого года работы Михаила Кузьмича в КБ, так как он знакомился с работниками КБ. Однако, будучи избранным вторично секретарем партбюро в 1956 году, я убедился в столь же тщательном, всестороннем подборе молодых специалистов. Михаил Кузьмич особенно чутко понимал, что эти назначения для многих станут началом творческого жизненного пути в КБ. Иногда он сетовал, что жаль отрывать специалиста на ту или другую должность, не связанную с основным направлением работ, но жизнь заставляла делать и так. Насколько серьезно относился Михаил Кузьмич к вопросу расстановки кадров, можно видеть из его выступления на партийном собрании: «Вначале я допустил ошибку, что не согласовал расстановку кадров с партгруппами, но потом я эту ошибку исправил». В тот период подбора кадров Михаил Кузьмич неоднократно вынужден был проявлять и данную ему власть, и твердость своего характера, что он делал с присущим ему тактом. Особое значение Михаил Кузьмич придавал налаживанию взаимоотношений с заводом. Завод делал большую серию изделий разработки С. П. Королева. Сейчас можно с уверенностью сказать, что тогда был заложен хороший фундамент. Михаил Кузьмич, в частности, говорил: «Дело чести партийной организации КБ оценивать свою деятельность тем вкладом, который вносится в дело выпуска новых изделий и нормальной работы завода». Нормальная работа завода – это очень емкое определение взаимоотношений КБ и завода. Этому участку работы партийная организация всегда уделяла и уделяет много внимания. Дмитрий Федорович Устинов всегда подчеркивал, что в нашей работе должны присутствовать сплоченность и единомыслие, что мы (КБ и завод) должны выступать как единый коллектив. Это несомненно будет способствовать нашим успехам и помогать обоим коллективам справляться со сложными задачами. Талант Михаила Кузьмича как ученого и выдающегося Главного конструктора проявился при обосновании и укреплении нового направления в ракетно-космической технике, организации разработок изделий, создании творческого коллектива в КБ и коллектива смежников. Несмотря на коллективный характер разработки современных комплексов, техническое творчество – глубоко психологический фактор, и Михаил Кузьмич исходил из положения, что каждый исполнитель может быть творцом идей, может дать оригинальные решения проблем. Михаил Кузьмич воспитывал в коллективе активный, наступательный характер творческой деятельности. Сам же он обладал этими качествами в совершенстве. Для Михаила Кузьмича характерной была большая интеллектуальная самостоятельность, позволяющая ему объективно оценивать создавшиеся ситуации, избегать предвзятости в принятии решений. Дальнейшие годы нашей совместной работы постоянно убеждали меня, что Михаил Кузьмич был настоящим Главным конструктором, жил, работал, отдавал все силы и энергию делу становления и развития КБ. И мы всегда с большой теплотой и благодарностью будет помнить о нем. Октябрь 1981 г. * * *
Борис Иванович ГУБАНОВ, ЕГО ИМЯ НАДОЛГО СОХРАНИТСЯ В ИСТОРИИ Если бы знать, что рядом работает человек, имя которого будет начертано в истории развития техники, тогда бы все события, связанные с его деятельностью, своевременно фиксировались и откладывались нужным сейчас материалом. Остается теперь только на основе сохранившегося в памяти его образа коллективным трудом восстановить облик большого человека, и все же это будет далеко не полное повествование о нем. О Михаиле Кузьмиче Янгеле я услышал вскоре после прихода в серийное КБ завода. Мы часто работали с документами, подписанными Главным инженером НИИ-88 Янгелем. Он несколько раз приезжал к нам, но встречаться с ним не приходилось. Впервые я увидел Михаила Кузьмича в конце лета 1954 года, когда он прибыл к нам уже не в командировку, а на постоянное место работы. Это произошло возле цеха шасси. Мимо нас прошел высокий мужчина с характерной спортивной прической. Мой товарищ, понизив голос, доверительно сообщил: «Это – Янгель. Наш новый Главный конструктор». В начале ноября во Дворце культуры железнодорожников состоялся торжественный вечер сотрудников КБ, посвященный 37-й годовщине Великого Октября. На этом вечере присутствовал и М. К. Янгель. Приехал он в ДК прямо с работы, всего за несколько минут до начала докладов. На нем был темный костюм, темная рубашка и даже галстук какого-то темного цвета. Сидя в президиуме, Михаил Кузьмич сосредоточенно слушал доклад, изредка посматривая в зал. Мне показалось, что он был чем-то недоволен: возможно, ему не понравился длинный доклад, а может быть, он был расстроен тем, что встречал праздник вдали от дома. Позже мы поняли, что Михаил Кузьмич умел слушать и доклады, и речи, а самое главное – собеседника. Он давал возможность высказаться, не перебивая, уточняя только отдельные интересующие его детали. Когда он слушал, то всем видом давал понять, что заинтересован в разговоре, и этим невольно вызывал на откровенность. В первые годы становления нашего КБ конструкторам и заводчанам приходилось постоянно задерживаться на работе. Не помню случая, чтобы кто-то без уважительной причины уходил с работы раньше девяти-десяти часов вечера. Вскоре после назначения М. К. Янгеля Главным конструктором он поздно вечером пришел к нам в отдел. Стараясь никого не беспокоить, Михаил Кузьмич подошел к Л. Н. Спрыгиной (если быть точнее, то нужно было бы написать «пробрался», так как в отделе была теснота). Главный конструктор стал рассматривать новые, еще не готовые чертежи, долго о чем-то расспрашивал Лидию Николаевну. Говорил он тихо, стараясь не мешать работающим конструкторам. Незаметно, как и появился, Янгель ушел. Он еще несколько раз приходил в наш отдел и каждый раз без шума и привлечения излишнего внимания. Позже мне довелось поближе познакомиться с Главным. Было это так. Нашей группе поручили одну очень серьезную работу. Дело было новым, аналогов решения подобных проблем ни у нас в стране, ни за рубежом не было (для того времени это было естественно: приходилось все начинать с нуля, и новое направление, рождавшееся в стенах нашего КБ, требовало новых, еще неизвестных решений). Долго бились мы над этой проблемой, перебрали десятки вариантов, наконец, остановились на одном решении, которое, как нам показалось, было интересным и приемлемым. Докладывая М. К. Янгелю, мы не особо-то вдавались в подробности, считая, что Главного детали не интересуют. Михаил Кузьмич внимательно выслушал нас, уточнил отдельные конструкции узла, проявляя при этом полнейшую осведомленность во всех тонкостях нашего проекта. На наше удивление, Михаил Кузьмич как-то сразу объемно и зримо охватил всю суть этой проблемы. Он тут же подбодрил нас, подсказал, в каком направлении вести дальнейшую разработку, и, похвалив за инициативу, пожелал нам удачи. Признаться, мы были ошеломлены этой встречей: во-первых, исключительно доброжелательностью Главного к нам, только начинающим свой конструкторский путь, и, во-вторых, интеллектом этого на вид простого человека. Фундаментальные знания и редкая интуиция помогали ему безошибочно ориентироваться в самых коварных конструкторских «рифах» и находить часто единственно возможный и кратчайший путь к цели. По прошествии стольких лет многие встречи, беседы, эпизоды позабылись, а отдельные, которым раньше и не придавал значения, теперь вспоминаются более выпукло, подчеркивая разнообразные грани таланта Михаила Кузьмича. Как-то я замещал начальника отдела. Раздался звонок. М. К. Янгель (это звонил он) поинтересовался, чем я занят, попросил, есть ли возможность зайти к нему. «У меня для Вас одно интересное дело, − как-то многозначительно сказал Михаил Кузьмич. – По нашей просьбе приехали специалисты из головного НИИ. Сейчас они устраиваются в гостинице, но скоро приедут в КБ. Хочу, чтобы Вы вместе с ними обсудили проблему защиты Вашего узла». И Михаил Кузьмич вкратце рассказал, чем вызвана эта необходимость, подчеркнул сложность ее выполнения. Признаться, мне стало не по себе. Проблема оказалась настолько серьезной, что для ее решения нужно было бы привлечь крупный коллектив опытных специалистов. Михаил Кузьмич четко уловил мое состояние и улыбнулся: «Ничего страшного, не боги горшки обжигают. Раньше не занимались, теперь – будем. Это нужно, прежде всего, нашей стране, а значит, и нам с Вами. Отсюда и все вытекающие последствия: лучше быть впереди, чем кого-то догонять». Михаил Кузьмич закурил (курил он очень много) и после некоторого раздумья продолжал: «Специалисты введут Вас в курс дела. Увяжите наши задачи с рекомендациями ученых, подготовьте решение. Вот и все, что от Вас требуется». «Ничего себе все», – подумалось. А Михаил Кузьмич, расхаживая по кабинету, подбадривал: «Прибывшие специалисты – известные ученые. Наши доброжелатели. А это – уже полдела. Считайте, что Вам повезло». Только Михаил Кузьмич произнес эту фразу, как Лидия Павловна сообщила, что гости в приемной. «Приглашайте их в кабинет, − ответил М. К. Янгель и, увидев бывших своих коллег по НИИ, улыбнулся, – Очень рад, что Вы согласились помочь нам. Без Вас мы ничего бы не сделали». Его улыбка… Широкая, открытая. Улыбка обаятельного человека. М. К. Янгель познакомил нас, кратко охарактеризовал суть проблемы и со словами: «В вашем распоряжении мой кабинет. Тут вам никто мешать не будет», − удалился в свою рабочую комнату (эта встреча происходила еще в корпусе 14). Заседали до позднего вечера. Когда проект решения в основном был готов, познакомили с ним М. К. Янгеля. По всему было видно – решением он доволен. Об этом Михаил Кузьмич сказал и гостям на прощание. Я задержался, стал сбивчиво извиняться, что мы помешали ему работать, что у нас не хватило такта перенести совещание в другое место. Михаил Кузьмич перебил меня: «Тут Вы не правы. Как руководитель предприятия я просто обязан был создать нашим гостям все условия для нормальной работы». Этот эпизод весьма характерен для стиля работы М. К. Янгеля. Впоследствии я не раз убеждался, что для него не было ничего важнее дела. Многие сейчас с гордостью вспоминают, что их первый рабочий день в КБ начался беседой с М. К. Янгелем. Несмотря на огромную загруженность, Михаил Кузьмич всегда находил время, чтобы встретиться с молодыми специалистами, помочь им в выборе направления работ, дать им ценные жизненные советы. Он умел вдохновлять вчерашних студентов на большие дела, поручал им самостоятельно решать задачи явно невузовской трудности и смело доверял молодым руководить сложными разработками. Это было не слепое доверие, а точно рассчитанный ход: дать каждому возможность испытать свои силы, проявить свои способности. Все это создавало в КБ особый, творческий настрой. Перед началом натурной отработки различных вариантов нашего узла приказом Главного конструктора я был назначен техническим руководителем испытаний. Ознакомившись с приказом, я очень удивился: дело в том, что по установившейся традиции техническими руководителями испытаний всегда назначались лишь заместители Главного конструктора или ведущие конструкторы, проектанты. Я был всего-навсего конструктором, одним из разработчиков узла. Но приказ есть приказ. Выезжаю на место испытаний. Потянулись дни, недели, месяцы своеобразной командировочной жизни. М. К. Янгель постоянно держал под контролем ход испытаний: часто звонил. Дела у нас шли неплохо. Мы сработались с руководством испытательного центра и в особенности с Василием Ивановичем Вознюком, человеком незаурядной судьбы, прославленным военачальником, командиром оперативной группы «катюш» в годы войны, первым начальником первого в нашей стране испытательного центра новой техники. Его работоспособность не знала границ. Юмор его был неистощим и часто помогал нам в особо тяжелых ситуациях. Вот к этому человеку я и пришел за поддержкой, когда узнал, что меня отзывают в КБ для выдвижения на партийную работу. Василий Иванович пообещал переговорить с Михаилом Кузьмичом. Свое слово он сдержал, но из этого ничего не получилось. Василий Иванович сообщил ответ М. К. Янгеля: «С этим парнем Вам придется расстаться». Перед конференцией мне пришлось несколько раз беседовать с Михаилом Кузьмичом. Я убеждал его, что опыт партийной работы у меня незначительный, настоящего авторитета и способностей нет – все это, в конечном счете, может привести к нежелательным последствиям. Наша последняя беседа закончилась тем, что Михаил Кузьмич сказал: «Это не только мое личное мнение. Быть тебе секретарем или не быть − не я решаю. Слово за делегатами конференции. Изберут – будешь работать. Со своей стороны, в случае твоего избрания, обещаю активную поддержку и помощь». С отчетным докладом выступил секретарь парткома А. И. Зарубин. Было много критических выступлений, конкретных предложений. Запомнилось выступление М. К. Янгеля. С присущей ему объективностью он проанализировал состояние дел в КБ. Говорил он, как всегда, без бумаги, четко оперируя цифрами, поименно называя всех ответственных исполнителей. С партийной принципиальностью Михаил Кузьмич говорил о недостатках. Следует отметить, что речь Михаила Кузьмича (то ли доклад, то ли выступление или просто высказывание мысли) была всегда удивительно грамотной, без лишних слов, последовательно построенной и весьма убедительной. Я знал, что у Михаила Кузьмича огромный опыт партийной и комсомольской работы. В 19 лет его избрали секретарем комитета комсомола одной из крупнейших текстильных фабрик страны, он возглавлял комсомольскую организацию Московского авиационного института – одного из прославленных вузов столицы, был бессменным членом профкома в КБ Н. Н. Поликарпова и ОКБ С. П. Королева. Помощь в работе партийного комитета была действительно большой. Дело не в том, присутствовал или не мог присутствовать на заседаниях партийного комитета Михаил Кузьмич, он всегда жил духом и интересами партийной организации и коллектива. Достаточно часто, особенно в первое время, рабочий день М. К. Янгеля начинался со встречи с секретарем партийного комитета. Его интересовало все: о чем говорят, какие есть предложения, что в поле критики коммунистов. Своеобразной была и обратная связь. Не помню случая, чтобы Михаил Кузьмич отмахнулся от выполнения просьбы или отказался от совета партийного комитета. При каждой встрече он умело вводил в курс всех событий, высказывал заботы, тревоги, делился трудностями. Иногда складывалось впечатление, что отдельные мысли он опробовал на секретаре и ждал оценки. Что скажет молодой секретарь? Но, как я понял позже, партийный и жизненный опыт помогали ему вырабатывать правильное понимание секретаря не только как партийного руководителя, но и как передового представителя партийной организации. Михаил Кузьмич хорошо понимал: не мог партийный секретарь высказывать только свое мнение, он должен знать мнение коллектива. И, действительно, приходилось постоянно советоваться с комитетом. Все важнейшие решения мы вырабатывали всегда коллективно. Вот это тесное общение: партийный комитет – секретарь парткома – Главный конструктор − способствовало общему успеху. Должен отметить, что не только у меня сложились хорошие, деловые отношения с Главным конструктором. Михаил Кузьмич всегда тепло отзывался о работе с В. Ф. Уткиным, А. И. Зарубиным, В. Я. Михайловым и другими секретарями партийной организации ОКБ. Одним из важных вопросов в деятельности партийного комитета была работа с кадрами, которая немыслима без участия в ней руководителя предприятия. Здесь Михаил Кузьмич чрезвычайно ответственно, без деления на малое и большое (в кадровых вопросах не бывает малых вопросов – это люди), вел решительную и основательную политику. Вспоминается одно из заседаний аттестационной комиссии. Зачитывается характеристика начальника отдела Э. М. Кашанова. Ему задают много самых разнообразных вопросов. Чаще всех спрашивает М. К. Янгель. Его интересует все: работа, политический и технический рост, общественная деятельность, семья, культурный досуг. Эрик Михайлович волнуется, но отвечает обстоятельно, иногда с присущим ему юмором. Секретарь комиссии Л. М. Астахова записывает в протоколе стандартную фразу: «Ответы – удовлетворительные». Михаил Кузьмич деликатно поправляет: «Ответы – хорошие. Так нужно и записать». Аттестационная комиссия принимает решение: «Должности начальника отдела Э. М. Кашанов соответствует вполне. Может быть рекомендован на выдвижение на более ответственную работу». О Михаиле Кузьмиче часто говорят, что он был по натуре своей мягким, чутким, доброжелательным, великодушным человеком. Все правильно с одной лишь поправкой. Там, где решались интересы дела, М. К. Янгель становился твердым, принципиальным, непоколебимым. Он терпеть не мог всякого рода волокитчиков, формалистов и бездельников. В этих случаях он был жестким, суровым, безжалостным. Вспоминается история с одним начальником отдела. Когда-то М. К. Янгель работал с ним у С. П. Королева. После образования нашего КБ Михаил Кузьмич предложил своему бывшему коллеге интересную работу, и тот, не раздумывая, принял предложение. Все шло прекрасно до тех пор, пока этот человек не возомнил, что на правах «друга Кузьмича» ему все дозволено. Без получения разрешения на совместительство он начал в рабочее время читать лекции не только в университете, но и в других вузах города. Естественно, что при такой загруженности педагогической работой у него совсем не оставалось времени для основной работы в КБ. Михаил Кузьмич несколько раз, сначала деликатно, потом уже со всей строгостью потребовал от него исполнения своих прямых обязанностей. Видимо, товарищ так и не понял всей серьезности положения, так как продолжал свое сомнительное совместительство. Дело дошло до разрыва. В последнюю минуту этот «совместитель» обиженно сказал: «Когда ты, Михаил Кузьмич, предлагал мне переехать из Москвы − обещал золотые горы. Я согласился перейти в твое КБ, оставив в столице прекрасную лабораторию и отличную квартиру. А теперь ты заявляешь, чтобы я искал себе новую работу. Разве так поступают настоящие друзья?». Янгель без тени сомнения в своей правоте отчеканил: «Я пригласил тебя работать, а чем ты занимался? Что конкретного ты сделал в КБ за последнее время? Развалил всю работу в отделе. Ответь мне, пожалуйста, сможет ли КБ создать что-то стоящее для страны, если все руководители будут вести себя, как ты?! Молчишь?! Мне ясно одно: цели у нас разные, а значит – разные дороги». Много раз мне приходилось встречаться, беседовать с Михаилом Кузьмичом, и я всегда удивлялся, как просто и доходчиво он говорил о самых сложных вещах, как образно излагал свои мысли. Память у него была на редкость завидная. Выступая, изредка пользовался лишь тезисами. Не помню случая, чтобы он, по памяти приводя массу цифр и называя сотни фамилий, когда-либо ошибался. О производственной деятельности партийной организации с участием М. К. Янгеля можно написать многое. Отмечу отдельные моменты. Может быть, не всем известно, но идея празднования десятилетия нашего КБ принадлежит Михаилу Кузьмичу. За сравнительно короткий срок наше КБ прошло путь становления и развития, стало одним из ведущих конструкторских бюро страны. Однако немногие знают, что положение нашего конструкторского бюро было весьма критическим. Дело в том, что в непримиримой борьбе за свое направление в новой технике конструкторское бюро приобрело не только союзников, но и недругов. Небольшому кругу коллектива КБ (пожалуй, только проектантам) и партийному комитету было ведомо, что Михаил Кузьмич вел титаническую борьбу за жизнь новых изделий. Мы были на грани потери новых машин. Повеял дух некоторой неуверенности в твердости шагов КБ. Вот тогда-то Михаил Кузьмич и предложил отметить малый юбилей. Цель: созвать к себе всех единомышленников и привлечь к себе внимание. К нам приехало много гостей. Нас поддержали. Коллектив встряхнулся. В порядке подготовки к 10-летию КБ на партийном комитете был утвержден план мероприятий, назначены исполнители. Подготовку доклада мы поручили двум весьма уважаемым и компетентным товарищам. В назначенный срок доклад был готов. Захожу к Михаилу Кузьмичу. Прочитал он доклад и, стараясь не обидеть, сказал: «Надеюсь, Вы мне доверяете сказать то, что считаю нужным? Или Вы сомневаетесь, что лучше я не скажу, чем здесь написано?». Видя мою растерянность, Янгель предложил: «Давайте договоримся так: я набросаю тезисы доклада и покажу Вам: если они окажутся приемлемыми – с ними и выступлю». На том и порешили. Все, кто присутствовал на торжественном собрании по случаю 10-летия КБ, помнят, как вдохновенно выступал М. К. Янгель. Речь его была яркой и образной, прямо-таки афористичной. Ныне эту речь постоянно цитируют в воспоминаниях и книгах. Замечательные слова М. К. Янгеля запечатлены теперь в бронзе, у подножия памятника Главному конструктору на заводе. В середине июня 1964 года на заседании партийного комитета был заслушан вопрос «О некоторых итогах конструкторской деятельности КБ». На этом заседании, в основном, речь шла о неудовлетворительном состоянии дел по весьма важной на тот период теме. И в докладе Главного конструктора, и в выступлениях секретаря и членов парткома прозвучала серьезная озабоченность состоянием дел в КБ. Естественно, решение партийного комитета было очень строгим, но чувствовалось: большинством воспринято правильно. Выявив серьезные недостатки по состоянию дел одной темы, партийный комитет счел необходимым, не откладывая, заслушать ход работ и по другой важной для КБ теме. И здесь наблюдалась та же картина: потеря чувства личной ответственности за порученное дело у определенной категории руководителей. Как следствие всего этого – отставание по срокам разработки, серьезные упущения и даже крупные промахи в работе. Такие положения в делах принято называть критическими. Так оно и было на самом деле. Целиком и полностью поддержав решения партийного комитета, сделав правильные выводы из критических замечаний в свой адрес, М. К. Янгель принципиально и настойчиво стал добиваться исправления создавшегося положения. Личный пример Главного конструктора сыграл тогда важную, если не решающую роль. За короткий срок была пересмотрена организационная структура КБ, основные усилия конструкторов направлены на разработку главных тем. Многие, конечно, видели: если Михаил Кузьмич занимался какой-то проблемой, то делал это глубоко и фундаментально, привлекая к ее решению весь коллектив, в том числе и молодежь. «Комсомольская организация КБ за отчетный период добилась многого в работе, − отмечал Главный конструктор. − Однако существует ряд крупных недостатков, на которые следует обратить внимание: нетехнологичность изделия, организация комсомольских постов – роль их пока незаметна, они не проявляют серьезных требований. Нужно не давать покоя всем, кто не занимается новым изделием. Лучше заняться одним вопросом, а не многими, и довести его до конца». Помню, как тепло приветствовал Михаил Кузьмич выход в 1963 году первого номера газеты «Конструктор», как он радовался, когда в газете появлялись боевые, толковые материалы и критические статьи. Он и сам неоднократно выступал на страницах газеты, нацеливая коллектив КБ на решение самых трудных и неотложных задач. А однажды, когда со страниц газеты прозвучала критика в адрес Главного конструктора, Михаил Кузьмич не стал выяснять, кто готовил материал, а принял меры, чтобы быстро исправить положение. Казалось, он совсем не заботился о своем авторитете. На самом деле это было не так. Ему было небезразлично, как оценивают его поступки, как относятся к принятым им решениям. Знаю, что не всегда визиты в вышестоящие инстанции заканчивались для него благополучно, но, тем не менее, приезжая в КБ, он не нагнетал обстановку. Однажды министр потребовал от Янгеля назвать фамилию конструктора, по чьей халатности произошла авария. Михаил Кузьмич категорически отказался сделать это, мотивируя свой отказ тем, что за все ошибки КБ отвечает Главный конструктор и поэтому он готов понести заслуженное наказание. В это напряженное время каждый день М. К. Янгеля был рассчитан по минутам. Он подолгу задерживался вечерами в КБ, часто работал и в выходные. Огромная перенапряженность подорвала его и без того слабое здоровье. В начале декабря 1964 года Михаил Кузьмич оказался в кремлевской больнице. Врачи категорически запретили всякие встречи с ним. Они самоотверженно боролись за здоровье Главного, пытаясь оградить его от всех конструкторских «штормов и бурь». Зная, как все в КБ волновались за жизнь Кузьмича, нам часто звонил и подробно информировал о состоянии его здоровья Б. А. Строганов, ответственный работник аппарата ЦК нашей партии, близкий друг М. К. Янгеля. Где-то в середине декабря на имя секретаря парткома пришло письмо от М. К. Янгеля. К моему глубокому огорчению, Михаил Кузьмич почти ничего не написал о себе и о своем здоровье. Письмо оказалось деловым, целиком посвященным работе, с полным перечнем: что, когда и как должно быть сделано в КБ. Вспоминая те годы, пожалуй, самые трудные в истории молодого конструкторского бюро, хочу подчеркнуть одну из важнейших особенностей в деятельности М. К. Янгеля – его уверенность в правильности избранного им нового направления, уверенность в технике, которая еще только создавалась. Эта уверенность укрепляла и нашу веру, вдохновляла работать так, как мы еще не работали. Кое-кому может показаться, что я идеализирую М. К. Янгеля, показывая его лишь с одной стороны. Для нас, его современников, не секрет, что в его жизни были и недостатки, случалось, и он ошибался. Но сила Янгеля как раз была в том, что он был не каким-то отрешенным от мира сего, не святым, а живым человеком. В подтверждение этих слов хочу рассказать еще один эпизод. Это случилось после очередного инфаркта. Четко представляя серьезность положения, глубоко понимая, что с ним может произойти, М. К. Янгель обратился в партийный комитет с письмом. Указав главные направления работ, которыми в будущем должно заниматься КБ, он дал исчерпывающие характеристики всем своим заместителям, указав на все их достоинства и недостатки, способность возглавить и успешно продолжить начатое дело. По мнению партийного комитета, все характеристики были объективными и соответствовали действительности. Если опуститься к разряду недалеких людей, мыслящих примитивно, то сам факт появления такого письма М. К. Янгеля можно расценить как временную слабость Главного. Но, если вдуматься, учесть критическую обстановку, в которой было написано письмо, то этот шаг возвышает Янгеля, показывает, что ему глубоко небезразлично кто и как поведет после него дело, в каком темпе оно будет развиваться. Тут нужны были и завидная прозорливость, и определенная смелость, и личное мужество. Хорошо знавший М. К. Янгеля летчик-космонавт, доктор технических наук К. П. Феоктистов выделил именно эти черты Главного конструктора: «Я питал глубочайшее уважение к Михаилу Кузьмичу Янгелю прежде всего за то, что он был настоящим коммунистом, бойцом, редкого мужества человеком». Во все времена людей, способных на самопожертвование ради достижения высокой цели, называли подвижниками. Несомненно, Михаил Кузьмич Янгель, также как и первые Главные конструкторы – первопроходцы новой техники, принадлежал к самой славной плеяде подвижников. Рассказывая о М. К. Янгеле как о коммунисте, мне хочется отметить, что многое из того, что было сделано партийным комитетом в то время, по сути дела являлось проведением в жизнь генеральной линии Главного конструктора, выполнявшего ответственнейшие поручения ЦК нашей партии и правительства. Михаил Кузьмич Янгель постоянно указывал нам цель, во имя которой мы шли вперед, зажигая нас своими идеями, поддерживал во всех начинаниях, давал изумительные примеры, как нужно выполнять то или иное партийное поручение, никогда не оставлял нас в трудные минуты. При этом о своих личных заслугах Михаил Кузьмич всегда скромно умалчивал, и что он – рядовой боец великой партии Ленина и как коммунист готов выполнить любое задание своей Родины. Известна истина: в сутолоке больших и малых дел часто не замечаешь, как быстро летит время. Два года работы в партийном комитете, казалось, пролетели стремительно. Наступил день, когда снова предстояло заняться техникой. Михаил Кузьмич определил направление: «Главный инженер по утвержденному положению да и существу тоже – это помощник Главного конструктора, проводник его технической политики. Теперь тебе и карты в руки: смело решай технические вопросы, следи за экспериментальными работами, блюди технику безопасности, внедряй научную организацию труда, поднимай изобретательство и неустанно – каждый день и час! – борись за качество. Если потребуется помощь, – поможем, если будет надо, – поправим. Но я надеюсь, − при этих словах Михаил Кузьмич хитро улыбнулся, − поправлять не придется. То, что в компетенции главного инженера, решать он должен сам, и не перекладывать работу на плечи Главного конструктора». Вплотную столкнувшись с обилием вопросов, которые приходилось решать Главному инженеру, я понял, почему Михаил Кузьмич сделал ударение на качестве. С качеством выпускаемой документации у нас действительно не все обстояло благополучно. Ежемесячно подводя итоги работ КБ, мы наблюдали неутешительную картину: тысячи извещений на изменения КД, море ошибок в конструкторской документации. Помню, как с трибуны партийно-хозяйственного актива нас ругал за некачественную документацию директор завода. «Это что же такое получается, дорогие товарищи конструкторы, − спрашивал А. М. Макаров. − В последнее время мы что-то слишком часто стали работать «в корзину» − безумно пускать на ветер государственные деньги. Если все эти немалые суммы использовать разумно, по-хозяйски, то сколько бы мы имели дополнительного жилья?!». М. К. Янгель не только не возражал директору завода, но и поддержал его, потребовал резкого улучшения качества конструкторской документации, более серьезного подхода к опытным и экспериментальным работам. Мы разработали «Положение о качестве конструкторской документации на предприятии» и вскоре представили его на рассмотрение Главному конструктору. Михаил Кузьмич, сославшись на неотложные дела, извинился, что сейчас не может посмотреть Положение, и попросил оставить его на пару дней. Придя на работу, я увидел на своем столе Положение о качестве с запиской Главного: «Документ хороший. Было бы еще лучше приложить формы учетной документации. Стоит подготовить приказ о введении этого положения и назначить ответственных за качество (в т. ч. материально, хотя бы за брак КД по явной безответственности или невнимательности)». Прочитав записку, я удивился, как быстро и точно Михаил Кузьмич схватил суть довольно объемного, в общем-то, непростого документа, на составление которого ушло немало времени, как он тонко уловил все достоинства Положения и его недостатки. М. К. Янгель всегда отличался пунктуальностью и тщательностью в делах. Мудрые заветы: «То, что можно сделать сегодня, никогда не откладывай на завтра» и «Мы, конструкторы, обязаны думать хорошо», − составляли одну из важнейших линий в стиле работы Главного. О качестве и надежности создаваемой техники М. К. Янгель поднял вопрос сразу же, как только появился в КБ. «Техника, которой мы занимаемся, − говорил Михаил Кузьмич, − является весьма молодой, и по своей молодости она не содержит в себе еще многого из того прогрессивного и передового, что достигнуто другими смежными отраслями промышленности, в частности авиационной промышленностью. Следовательно, у нас есть, по существу, неограниченные возможности для широкого развертывания творческой инициативы всех инженерно-технических работников и передовых рабочих цехов нашего завода». Поразительная способность была у М. К. Янгеля: видеть главное в любом деле, умение взять на себя ответственность. Понятно, все это пришло к нему не сразу, нужно было пройти «школу инженерного искусства и коллективного творчества» в КБ Н. Н. Поликарпова, впитать все лучшее из достигнутого авиационной промышленностью и, наконец, закалиться, работая в одной «упряжке» с С. П. Королевым. Но даже всего этого недостаточно, чтобы подняться на вершину творчества. М. К. Янгель обладал еще целым комплексом свойств, каждое из которых само по себе уже было огромным достоинством: острым чувством нового, поразительной интуицией, широким кругозором, умением выбирать достойные цели, привлекать к поиску талантливых людей, синтезировать и реализовать их идеи, добиваться побед даже там, где их вовсе не ждали, и при этом всегда оставаться скромным человеком с чутким сердцем. Неизмеримо вырос авторитет М. К. Янгеля среди ученых и создателей новой техники, когда вопреки всем пессимистам была доказана принципиальная возможность и перспективность нового направления, признанного впоследствии классическим, в развитии ракетной техники. Все успехи конструкторского бюро Михаил Кузьмич рассматривал в неразрывной связи с достижениями завода. Михаил Кузьмич отчетливо понимал, что лишь в творческом союзе конструкторов и производственников рождается успех и активно призывал крепить этот союз: «Нашему ОКБ поручена разработка очень сложного и нужного для страны изделия. Оно должно превзойти все, что мы имеем в этой области до сих пор. И опять-таки, никакими усилиями одних конструкторов такие изделия создать невозможно. Нужна самая активная, настойчивая, добросовестная, внимательная помощь и участие в работе всего коллектива завода. Если этого не будет, делу технического прогресса нашей техники будет нанесен большой ущерб». С каждым годом задачи все усложнялись и, чтобы их решить успешно, Главный конструктор пошел на смелый и, как показалось многим, рискованный шаг, передав экспериментальное производство из КБ на завод. Мне пришлось быть свидетелем и участником многих дискуссий на эту тему между Главным конструктором и директором завода. Михаил Кузьмич настаивал, чтобы опытным работам на заводе уделялось первостепенное значение. Александр Максимович всегда соглашался с этим, но предупреждал, что срывать план по серии ему никто не позволит. «Вот этого я и не требую, − возражал Михаил Кузьмич, − но жить надо перспективой». И Янгель в который уже раз начинал монолог о новой машине, о том, как ее ждет страна. Макаров из уважения к Михаилу Кузьмичу не перебивал его, хотя о новой машине знал уже все до деталей. «Знаю, Михаил Кузьмич, ты кого угодно способен уговорить, но план есть план», − не сдавался директор завода. И тогда в словесный «бой» двух руководителей вступали бумага, карандаши и ручки. Главный конструктор и директор завода садились за стол, прикидывали возможности завода, подсчитывали резервы, как говорят, сводили все плюсы и минусы в «общий котел», чтобы без ущерба для производства пройти весь сложный путь от идеи до металла. В чем-то уступал директор, в чем-то сокращал свою опытную программу Главный − так и приходили к общему соглашению. Правда, это вовсе не значило, что оба они были этакими «соглашателями». Там, где речь шла о технологии производства, об экономике, умении хозяйствовать, директор всегда был на высоте, а Главный конструктор никогда не позволял, чтобы проекты КБ залеживались на полках и ждали удобного момента, когда завод их сможет реализовать. Нужно было − М. К. Янгель и А. М. Макаров вместе выходили в ЦК, министерство, привлекали к решению общих для КБ и завода проблем крупнейших ученых страны и, как правило, всегда добивались успехов. Это был закономерный итог долгого и тесного содружества единомышленников, в основу которого были положены принципы взаимного уважения и доверия. М. К. Янгель ясно, глубоко понимал огромную ответственность, которую нес перед страной за ее спокойствие и уверенность в светлом будущем. Во имя счастья Родины он и создавал мощнейшую технику, и работал неистово, и жил так же напряженно. Все, что было создано коллективом КБ «Южное», неразрывно связано с именем его основателя – Михаила Кузьмича Янгеля, в течение семнадцати лет возглавлявшего конструкторское бюро. М. К. Янгель был выдающимся конструктором, создателем целого ряда уникальных образцов новой техники, не имевших аналогов в мировой практике. Он был руководителем по сумме всех своих замечательных качеств, позволивших ему определить и направить усилия многотысячного коллектива на решение задач большой государственной важности. Академик М. К. Янгель был ярким представителем нового типа ученых – организаторов науки. Он работал и жил заботами не сегодняшнего дня, а как настоящий ученый − смотрел далеко вперед: одни его оригинальные, новаторские идеи уже реализованы в конкретных разработках, другие – ждут своего воплощения. Он создал большой творческий коллектив единомышленников, создал научную конструкторскую школу. Февраль 1991 г. P. S. Может показаться, что Михаил Кузьмич в моем изложении идеализирован. Будем считать, что это все же мое личное представление. И другая оценка может существовать. Но я готов отстаивать свое мнение, потому что мне пришлось работать в тесном контакте со многими сильными из ракетного мира – В. П. Барминым, Н. А. Пилюгиным, В. И. Кузнецовым, А. Д. Конопатовым, В. Г. Сергеевым и, наконец, быть заместителем у Валентина Петровича Глушко. Мне представилась счастливая возможность видеть союз больших характеров и судеб. У каждого есть и достоинства, и недостатки… * * *
Юрий Алексеевич СМЕТАНИН, РУКОВОДИТЕЛЬ, НАСТАВНИК, ДРУГ Впервые я увидел Михаила Кузьмича в 1949 году в Москве, на площади Маяковского. Это была случайная встреча. В то время я был студентом МАИ, знал доцента Стражеву, которой сдавал зачеты и экзамены. И меня, естественно, заинтересовал мужчина, который стоял рядом с ней и держал за руки двух малышей. Чем-то этот человек сразу мне понравился. Вот только значительно позже я понял, что такое естественное природное свойство Михаила Кузьмича вызывать симпатию с первого взгляда объяснялось большой внутренней силой и присущим ему обаянием. Вторая встреча существенно больше раскрыла мне его как человека. В 1951 году мы, студенты, дипломировались и работали на полставки в конструкторском бюро у С. П. Королева. Одним из заместителей Сергея Павловича был Михаил Кузьмич Янгель. Однажды в нашем конструкторском зале появилось объявление о том, что после работы состоится собрание с повесткой дня – прием в партию товарища Королева С. П. Естественно, что мы остались на это собрание и не пожалели. В то время секретарем ЦК (так назывались партийные руководители) на этом предприятии был некто Медков. Очень энергичный, напористый, резкий человек, который выступил с критикой в адрес заместителей Королева. Но досталось, конечно, Михаилу Кузьмичу. Главным образом за мягкость. В ответном слове Михаил Кузьмич очень спокойно и убежденно сказал, что он принимает к сведению критику товарища Медкова, однако считает не совсем правильным ужесточать взаимоотношения с подчиненными, предпочитая метод делового обсуждения и убеждения административному нажиму. В заключение добавил, что если быть ближе к повестке дня, то он будет голосовать за прием Сергея Павловича в партию и призывает к этому всех собравшихся. Я очень рад, что последующие 20 лет своей жизни Михаил Кузьмич в подавляющем большинстве руководствовался именно этим принципом – делового обсуждения и убеждения. Недавно, беседуя о Михаиле Кузьмиче с одним из наших сотрудников, с человеком, которого Михаил Кузьмич очень ценил и уважал, я услышал от него такую оценку: «Ты знаешь, в сущности, за все время работы у нас в КБ Михаил Кузьмич никого ни разу не наказал так, как наказывают у других. А ведь другой раз и было за что». Это действительно так. Наибольшая мера наказания, как правило, выражалась словами: «Что бы это было в последний раз!». Третья и самая продолжительная встреча с Михаилом Кузьмичом произошла в 1954 году, после назначения его Главным конструктором ОКБ-586. Начальник, как известно, должен обладать двумя главными свойствами: быть компетентным в технических вопросах и уметь руководить. Сказать просто, что Михаил Кузьмич был компетентным в технических вопросах, это значит сказать очень мало. Он обладал способностью не просто глубоко и грамотно понимать технику, у него было и другое замечательное свойство, которое мы очень ценили – генерировать идеи. Эти идеи сыпались из него, как из рога изобилия. И не всегда слишком легко удавалось, так сказать, парировать то или иное предложение. Эти идеи заставляли нас думать, индуцировали мысли, и, таким образом, завязывалась работа широким фронтом. Так что всегда мы приходили к выбору того или иного варианта, оценивая ряд побочных идей, оценивая все, что можно было посмотреть. Вы знаете, насколько внимательно он относился к проектным работам, считая этот участок жизненно важным для дальнейшего развития организации, укрепления ее авторитета и процветания. И в этом плане мы, проектанты, глубоко ему благодарны за все те мысли, которыми он нас питал. До сих пор еще в нашем коллективе живут несколько крупнейших замыслов академика Янгеля, которые, я верю, рано или поздно найдут свое воплощение в реальной конструкции. Прочитав известный принцип Питера, гласящий о том, что рано или поздно всякий служащий достигает своего потолка, так называемого уровня некомпетентности, я пришел к заключению, что хотя это и шутка, но шутка, претендующая на объективный закон. На это один из известных людей ответил мне так: «Закон, в котором легко найти исключения, не может быть законом». А исключения есть. Например, для Михаила Кузьмича Янгеля не существует уровня-потолка некомпетентности. В прошлом году, готовясь к 60-летнему юбилею Михаила Кузьмича, мы подготовили, как это водится, шутку, которая называлась: «Правдивое жизнеописание академика Михаила Янгеля со дня его рождения до наших дней». В этом сочинении есть место, где описывается пребывание Михаила Кузьмича в Америке. Я приведу небольшую выдержку: «Если бы агенты ЦРУ и ФБР могли заглянуть в будущее, они, пожалуй, не пустили бы Михаила Кузьмича на свою территорию. А скорее всего, не отпустили бы. Но в те времена секретный агент ЦРУ в своем докладе о госте зафиксировал следующее: рост – стремительный; интеллект – значительно выше среднеамериканского; внешний вид – элегантный, респектабельный. Умеет управлять автомобилем, самолетом, предприятием. На пост президента США не претендует, а подошел бы!». В этой шутке – безграничная вера авторов в возможности Михаила Кузьмича. Невольное подтверждение того факта, что Михаил Кузьмич был человеком, несомненно, государственного масштаба – все его действия и решения им лично оценивались прежде всего с точки зрения интересов государства. Но начальник должен уметь руководить. Классики говорят: руководить – это значит предвидеть, организовать, согласовать и контролировать. Мне нет нужды доказывать, что благодаря именно этим качествам Михаила Кузьмича как руководителя громадный, исключительно сложный коллектив нашего КБ превратился в высокоорганизованное, плодотворное предприятие с четко налаженными связями подразделений на всех уровнях организационной структуры, на всех этапах производства. Помимо этих обязательных и сугубо специфических качеств администратора Михаил Кузьмич располагал целым рядом свойств, приводящих его в разряд руководителей высшего класса: неиссякаемой энергией, решительностью, рассудительностью, здравым смыслом, точностью, чувством ответственности, чувством справедливости, природным тактом – всем тем, что поднимало его в наших глазах, в нашей самооценке. У нас принято говорить: «Плох тот конструктор, у которого нет идей. Еще хуже тот, кто не может из них выбрать единственную, правильную, главную». Умение видеть главное, не размениваясь на мелочи, и при этом обладая способностью помнить о мелочах, не забывая главного, − вот свойство руководителя такого творческого коллектива, каким является наше КБ, каким создал его Михаил Кузьмич Янгель. Но я хотел бы подчеркнуть еще одно довольно редкое среди начинающих руководителей свойство Михаила Кузьмича, которым обладает далеко не каждый. Это – умение слушать. Мало того, что он умел хорошо говорить, хорошо донести свою мысль, был блестящим оратором, но он умел и хорошо слушать. Любого и столько, сколько нужно. Специалисты считают, что необходимо несколько дней, чтобы судить о качестве рабочего. Недель или месяцев, чтобы судить о достоинствах мастера. Проходят иногда годы, чтобы можно было судить о достоинствах руководителя. Михаилу Кузьмичу для этого понадобилось всего несколько месяцев. За этот короткий срок все мы поняли, что ответственность в работе с ним построена не на страхе перед ним, как перед начальством, а на страхе хотя бы на минуту потерять его уважение, упасть в его глазах. Такова была сила его интеллекта, его авторитета. Безусловно, что помимо того огромного вклада, который внес академик Янгель в нашу технику, в нашу науку как выдающийся ученый, он является классическим примером, образцом, эталоном руководителя, стоящего во главе крупнейшего, современного научно-производственного предприятия. И это я хотел бы подчеркнуть особо. Человеческие возможности беспредельны, и этот тезис прекрасно иллюстрируется всей жизнью, энергией, молодым задором, целеустремленностью и интеллектом академика Янгеля. Октябрь 1972 г. * * *
Михаил Иванович ГАЛАСЬ, ОБЩЕНИЕ С КУЗЬМИЧОМ По ряду обстоятельств я решил переводиться из Златоуста в Днепропетровск, в ОКБ-586, и поделился этим с некоторыми товарищами. Они описали мне Янгеля так: высокий, с черной бородой, лет за 50. Когда немцы обстреливали Лондон ракетами Фау-2, он, дескать, специально ездил туда собирать осколки ракет для изучения. 16 марта 1956 г. я приехал в Днепропетровск. Зима в том году была на редкость снежная, снега – по пояс. Пришел в приемную, прошу секретаря доложить обо мне Михаилу Кузьмичу. Захожу в кабинет. Сидит высокий стройный молодой человек с сигаретой, смотрит в окно. – Здравствуйте, садитесь. Смотрите, сколько снега. У вас на Урале так же?... Чем занимались?... ЖГГ?... Хорошо, нам такие специалисты нужны. Я был направлен в конструкторский отдел 5 В. Н. Лобанова, в сектор Л. М. Назаровой, в группу И. И. Щукина. Через полгода перевелся в проектный отдел 3 В. М. Ковтуненко, в сектор Э. М. Кашанова, где проработал два года. Михаил Кузьмич часто заходил к нам в отдел, беседовал с исполнителями больше, чем с начальниками, очевидно, считал, что получит больше информации. В октябре 1958 г., проходя по отделу, Михаил Кузьмич обронил: – Галась, зайди ко мне. Когда я явился, он сказал: – Мы задумали новую интересную машину. Ты бы не согласился стать ведущим? – Надо подумать, Михаил Кузьмич. Через неделю снова: – Ну, ты подумал? – А вы мне поможете? – Обязательно помогу. Когда меня направляли на завод в Новосибирск, пригласили в ЦК, к А. И. Микояну, я не хотел ехать. Анастас Иванович начал нажимать. – А поможете? – Обязательно поможем. Раз не справитесь – дадим одну пощечину, второй раз не справитесь – другую, потом повернем спиной и – по одному месту. Я засмеялся и сказал, что согласен. Это очень характерно для него – вот так, вроде экспромтом, внезапно – серьезное предложение. Доверял… С этого времени я стал встречаться с Михаилом Кузьмичом чаще и дольше. Разрабатывали ракету 8К64. Тема совершенно новая, не похожая на работы Сергея Павловича. Звонок Михаила Кузьмича: – Собирайся, завтра едем к министру. – Но почему я, Михаил Кузьмич? – Не только ты. Завтра генеральное сражение по 64-й. Будут Будник, Ковтуненко, другие… Дам тебе слово пятым-шестым. Потом я. В восемь часов вечера вошли в кабинет К. Н. Руднева. Первым докладывал Ковтуненко. Наконец, слово мне. Я выпалил: – Знаете, Константин Николаевич, какова отличительная особенность этой машины? Не нужен воздух. Наддув от ЖГГ. Не нужны сотни баллонов. Экономия порядка семи миллионов рублей. – Ну, скажем, не семь, а четыре миллиона, – заметил Руднев. – Но все равно дельно… Следующий эпизод. В апреле 1961 г. Михаил Кузьмич сказал мне: – Обстановка у нас тяжелая. Я переселяюсь на южный полигон. Будешь техническим руководителем испытаний – помощником Главного конструктора. Сама постановка вопроса, важность проблемы заставила меня задуматься, как лучше построить свою работу, чтобы меньше отвлекать Михаила Кузьмича. Много было интересных моментов. 1964 год. Десятилетие ОКБ. Михаил Кузьмич: – Поедешь в Москву, придешь к Сербину, Смирнову – вручишь пригласительные билеты. – Михаил Кузьмич, к ним ведь не каждый Главный конструктор вхож, как же мне…? – Придумай что-нибудь. Позвони мне. Будешь у Смирнова, попроси десять тысяч рублей, потом в Ленинград, на завод «Электросила», закажешь аппаратуру. О чем это говорит? Такой подход Михаила Кузьмича носил, главным образом, воспитательный характер. Он умел хорошо контактировать со своими подчиненными и учил этому других. Отчитывать он тоже умел. Но это не носило у него унижающий человека характер. Никто не обижался, не злился, старались побыстрее исправить положение. С ним можно было поговорить не только на технические темы, но, скажем, о делах семейных и прочем. Он мог дать совет, иногда шутливый, но всегда полезный. Последняя встреча. 25 октября 1971 г. Приехали поездом. Вручили ему подарок – макет карты СССР с нашими машинами. Очень ему понравилось. Потом чествование на коллегии, многочисленные поздравления. Когда один из наших смежников, Соловьев, вручал ему подарок – огромный рог из хрусталя, – Михаил Кузьмич покачнулся, потерял устойчивость, как ракета… Я подхватил его… Врачи, уколы… А через несколько минут его не стало… Михаил Кузьмич оставил нам не только огромное научное, техническое наследие, но и воспитательное – как нужно относиться к людям. В беседах с руководителями подразделений и с ведущими конструкторами М. К. Янгель неоднократно подчеркивал: «Руководитель должен четко представлять суть всех технических решений, принятых для комплекса, машины и всех агрегатов. При решении возникающих технических вопросов руководитель должен хорошо разбираться в их сущности, знать линию Главного конструктора. Для четкой технической координации руководитель подразделения должен построить свою работу на основе полной информации о состоянии разработки, отработки комплекса и особенно о разработках головного КБ». Отсутствие такой информации, говорил он, не дает возможности быстро ориентироваться, принимать правильные решения, может свести работу к чистому администрированию, и руководитель постепенно превращается в диспетчера. Особое отношение Михаила Кузьмича было к ведущим конструкторам. Он вкладывал в это понятие полный смысл – ведущий конструктор разработки, изделия, комплекса. Стиль работы Михаила Кузьмича с ведущими конструкторами заключался в том, что он доверял им принимать самостоятельные решения и простых, и сложных вопросов. Он всегда стремился воспитать в каждом способность иметь свое мнение по техническим вопросам. На совещаниях по сложным проблемам создания и отработки машины Михаил Кузьмич обязательно спрашивал, а иногда и начинал с мнения ведущего конструктора, оценивал, как он понимает проблему и можно ли ему доверить контроль принятого технического решения. Он считал, что ведущий конструктор – это тот человек, который поможет провести линию Главного не только в пределах предприятия, но и у смежников. Михаил Кузьмич очень не любил «соглашателей», у него никогда не было «любимчиков», это давало ему возможность всегда со всеми быть принципиально деловым. Стиль работы Михаила Кузьмича воспитывал умение, навыки руководителя и организатора, а работу делал полезной, приятной и интересной. Октябрь 1981 г. * * *
Иосиф Менделевич ИГДАЛОВ, ВСЯ ЖИЗНЬ – БОРЬБА Уже более сорока лет прошло с тех пор, когда последний раз прозвучал «убийственный» вопрос, задаваемый Михаилом Кузьмичом запутавшемуся в собственных словах выступающему на совещании специалисту любого ранга: «Какой тезис ты защищаешь?». Считая, что вопрос обращен ко мне, постараюсь как можно короче, с минимальным использованием специфических терминов, но не в ущерб пониманию существа проблемы, защитить (доказать) следующий тезис: «Причиной безвременной кончины М. К. Янгеля в расцвете творческих сил, до триумфальной победы его идеи по созданию самого лучшего в мире ракетного комплекса, явились: – семнадцатилетнее непрерывное перенапряжение умственных, физических, психологических и нервных человеческих сил; – предельные нагрузки, возникавшие как при выработке концепции, так и, особенно, при ее отстаивании на всех уровнях власти и науки; – двенадцатилетнее (с 1959 года) – перманентное чередование положительных и отрицательных стрессовых ситуаций – от головокружительного взлета и до критически низкого падения». Блестящая победа Р-12 над Р-5М была одержана в результате ожесточенной борьбы с Королевым, ставки в которой были предельно высокими: красавец завод № 586 и фактическое становление ОКБ-586 как самостоятельного предприятия. Это достижение было Михаилом Кузьмичом охарактеризовано в тезисах доклада к 10-летию ОКБ: «В 1959 г. правительство сочло возможным дать такую высокую оценку нашим успехам, о которой я лично не мог и мечтать. Наше ОКБ и завод награждены орденами Ленина…». Сам М. К. Янгель стал Героем Социалистического труда (1959 г.), доктором технических наук и лауреатом Ленинской премии (1960 г.). Это был первый взлет и, соответственно, «положительный» стресс с полагающимися… последствиями. О переходе к очередному раунду борьбы представляется целесообразным привести соответствующие цитаты из тезисов к тому же докладу Михаила Кузьмича: «В 1958 г. мы осмелели настолько, что внесли в правительство предложения о разработке двух новых изделий нашего направления – изделий 8К64 и 8К65 (ракеты Р-16 и Р-14 соответственно. – Авт.). Не могу умолчать, что при докладе в марте 1958 г. о проектах этих изделий Н. С. Хрущеву он мне и т. Буднику сказал, что если бы эти изделия уже были на вооружении Советской Армии, он бы гарантировал, что третьей мировой войны не будет. Н. С. Хрущев одобрил наши предложения и дал указание открыть разработке этих изделий «зеленую улицу». Вскоре к нам в ОКБ и на завод приехали Л. И. Брежнев и Д. Ф. Устинов и приняли такие меры, что мы смогли выйти на испытания этих изделий в рекордно короткие сроки». К этому тезису требуются серьезные комментарии: – Н. С. Хрущев своим приездом в Днепропетровск продолжил нагнетать состояние эйфории для смягчения пресса − «давай-давай»; – предложение по созданию Р-16 обострило до предела борьбу с С. П. Королевым, поскольку оно напрямую направлено против Р-7 как боевой МБР, тем более что после серии аварий в августе 1957 г. был осуществлен ее успешный пуск (сообщение ТАСС); – указание о «зеленой улице», выданное в марте 1958 г., звучит особенно «веско», если учесть, что в июле 1958 г. было утверждено задание на разработку более совершенной «семерки» – Р7А (МБР 8К74, которая была принята на вооружение в сентябре 1960 г., снята с вооружения в середине 60-х гг.); – тандем Брежнев-Устинов не допускал «укладку всех яиц в одно лукошко». Поэтому 13 мая 1959 г. вышло постановление о создании С. П. Королевым межконтинентальной боевой ракеты Р-9 (Р-9А), проектирование которой началось гораздо раньше. А это уже чистая конкуренция с Р-16, поскольку все основные тактико-технические характеристики Р-9А, включая ШПУ и пятиминутную готовность, при ее стартовом весе 80 т (!) практически не отличались от Р-16 со стартовым весом 148 т (!). Учитывая комментарии, даем продолжение вышеприведенного тезиса из доклада М. К. Янгеля: «При пуске изделия 8К64 нас постигло тяжелое несчастье – погибла группа наших товарищей и больших друзей – М. И. Неделин, Л. А. Гришин, Л. А. Берлин, В. А. Концевой, Б. М. Коноплев и некоторые другие. Мы все до сих пор скорбим об этой тяжелой утрате». Катастрофа 24 октября 1960 г., безусловно, явилась переломным моментом в жизни Михаила Кузьмича: 49 лет до нее и 11 лет после. Это, прежде всего, объясняется тяжелейшим инфарктом, при котором была необходима немедленная медицинская помощь, никаких движений и по закону – четырехмесячное лечение. Ничего не делать, ни о чем плохом (о работе!) не думать и др., т. е. все, что Янгель делал наоборот, вплоть до утреннего 25 октября разговора с Н. С. Хрущевым, задавшим вопрос: «А где в это время был технический руководитель?», а также работы на полигоне в Государственной комиссии, возглавляемой Л. И. Брежневым. Это второй сильнейший стресс, но, к великому сожалению, − отрицательный – катастрофическое падение с высоты достигнутого взлета, с последствиями недолеченного трансмурального инфаркта. Результаты второго раунда борьбы Михаил Кузьмич предельно скромно охарактеризовал в том же тезисе следующим образом: «В связи с успешной отработкой этих изделий (боевой ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности Р-14 был принят на вооружение в апреле 1961 г. – Авт.) наше ОКБ в 1961 г. вторично было удостоено высшей правительственной награды – ордена Ленина, а завод – ордена Трудового Красного Знамени». Сам Янгель был вторично удостоен звания Героя Социалистического Труда и избран в Академию наук УССР – очередной, через год после катастрофы, высочайший взлет, т. е. третий, слава Богу, положительный сильнейший стресс со всеми вытекающими последствиями, в т. ч. второй инфаркт, полученный из-за серьезных нарушений режима при лечении первого. Не успев закончить борьбу Р-16 против Р-9А, Янгель в конце 1961 г. начал активную подготовку к третьему раунду. Не исключено, что такое решение было вызвано необходимостью создать МБР, лучшую в мире по всем ТТХ. Инициирующим фактором явилось развертывание в США работ по созданию МБР на высококипящих компонентах − ракеты «Титан-2». Первый пуск этой ракеты состоялся в марте 1962 г., т. е. на год позже, чем ракеты Р-16. На вооружение «Титан-2» – последняя жидкостная МБР США – поступила в 1963 г. с ТТХ, не отличающимися от соответствующих параметров Р-16У (шахтного базирования). С первого дня «третьего раунда» жизнь нашего КБ можно смело характеризовать как борьбу за Р-36, основную, базовую на долгие годы (включая РН «Днепр» – более чем через 40 лет) разработку КБ «Южное». В результате, с начала затянувшегося «нулевого цикла», который завершился постановлением от апреля 1962 г., присвоившей разработке гриф «важнейшей государственной задачи», и до полного окончания работа по Р-36 шла в условиях жесткой конкурентной борьбы: – с ОКБ-52 (В. Н. Челомей), разрабатывающим «универсальную» ракету УР-200 в двух вариантах – баллистическом и ракеты-носителя КА; – с ОКБ-1 (С. П. Королев), предложившим орбитальный вариант ракеты Р-9А, «скромно» названный ГР-1, т. е. первая глобальная ракета. На всех начальных этапах создания ракетного комплекса МБР Р-36 баллистического варианта – индекс 8К67 – до этапа подготовки первой летной ракеты на контрольно-испытательной станции (КИС) завода, − работа шла вполне благополучно. Контрольные испытания первой летной ракеты 8К67 № 1Л начались летом 1963 г., т. е. через 14 месяцев от момента выхода постановления – рекордно короткий срок (!), но … с этого момента – как будто в дело вмешался злой рок и испытывал Михаила Кузьмича на прочность. Испытания на КИС ракеты № 1Л продолжались вместо трех–пяти суток почти два месяца, в процессе которых было заменено около трех десятков приборов системы управления (СУ), в основном из-за схемно-конструктивных недоработок, допущенных Харьковским ОКБ-692. Учитывая присвоенный гриф – государственной важности, а также прямое указание в постановлении о контроле и ответственности соответствующих министерств, ведомств, обкомов партии и ЦК КПУ, можно себе представить обстановку, в которой работали М. К. Янгель и А. М. Макаров. Практически еженедельные вояжи в Харьков или «приглашение» (!) Главного конструктора СУ В. Г. Сергеева «на ковер». Положение усугублялось еще свежими воспоминаниями о причинах трагедии 24 октября 1960 года, основным виновником которой являлось то же самое ОКБ. Все это исчерпало терпение руководства. Созрело твердое решение – пора менять Главного конструктора СУ. Для проведения этой операции в Харьков съехались представители всех контролирующих и направляющих структур, причем на высоком уровне, включая министра В. Д. Калмыкова. Днепропетровск представляли М. К. Янгель, А. М. Макаров и С. П. Метлов (заведующий оборонным отделом Днепропетровского обкома КПУ), не считая сопровождающих их лиц. Заседание, проходившее в кабинете Сергеева, больше напоминало экзекуцию, устроенную министром по результатам скрупулезного рассмотрения схемно-конструкторской документации. В середине дня кавалькада машин с сидящими в них членами VIP-команды понеслась в ресторан, где поперек банкетного зала уже был накрыт стол на 14 человек (по числу VIP-персон). За параллельно стоящим столом разместились сопровождающие лица (подробности не корысти ради, а понимания для). За VIP-столом было весьма оживленно – смех, шутки, громкий разговор, а Михаил Кузьмич был все время очень серьезен и явно чем-то недоволен. Под конец обеда раздалось громкое восклицание Александра Максимовича: «Ну, пошли, хозяин за все расплатится!» с последующим заразительным хохотом. Сопровождающие днепропетровцы решили, что их эта команда не касается, и продолжали ждать расчета. В результате, прибежал весьма импозантный товарищ, который встречал гостей на входе (оказалось – секретарь райкома КПУ), с криком: «Что вы, что вы – за все уже заплачено! Вас ждут!». На выходе, с неизменной сигаретой, нас встретил Янгель: «Вы расплатились?», и после получения ответа: «Что же он… наделал!». Стало понятно, что Сергеев остается Главным конструктором и начальником ОКБ-692. Тут – весь наш Кузьмич, со свойственной ему добропорядочностью и интеллигентностью! Первый пуск 8К67 № 02Л (ракета № 01Л была отставлена из-за выработки ресурса при испытаниях на КИСе) с наземного старта состоялся в конце сентября 1963 г. и был аварийным: ракета сгорела на старте. Причина – влияние струй ДУ первой ступени, отраженных модернизированным столом. Виновник – КБТМ. Главного конструктора Петрова заменили на Соловьева. Через два месяца состоялся второй пуск – ракета № 04Л. Он был успешным – результаты весьма обнадеживающие. Еще через 10 дней – попытка третьего пуска – ракета № 03Л. Как и при первом пуске, ракета сгорела на старте – из-за срабатывания контакта подъема в результате действия тяги рулевого двигателя первой ступени. Михаил Кузьмич стоял в капонире в непосредственной близости от старта и видел, как ~35 секунд до неизбежного взрыва его ракета стояла на старте с работающим в режиме полета рулевым двигателем – картина не для больного сердца! Причина – совокупность оплошностей, допущенных и признанных всеми причастными подразделениями ОКБ-586. В результате «разбора полетов» Янгель присутствующим руководителям этих подразделений сказал: «Как вам не стыдно?!». И все! Лучше бы уж ударил. Таким образом, 1963 г. закончился со счетом 1:2 не в нашу пользу и не в пользу ракеты 8К67. В первые месяцы 1964 г. положение еще более усугубилось. После четвертого успешного пуска, через 10 дней был аварийный пуск пятой ракеты из-за производственного дефекта в датчике давления. После хорошего результата шестого пуска в конце февраля – аварийный седьмой пуск ракеты (№ 08Л). Причина – потеря устойчивости на 48-49-й секунде полета (т. е. при действии максимальных скоростных напоров) из-за снятия первичного питания с одной рулевой машинки (РМ). Здесь уместно вспомнить поговорку «не может быть, потому что не может быть никогда!». Почти два месяца шел поиск первопричины, с тщательным рассмотрением самых диких версий (от механического обрыва медного многожильного провода диаметром с копеечную монету − до, конечно, диверсии). При изготовлении, контроле и испытаниях следующей ракеты были приняты исчерпывающие меры, но… восьмой пуск ракеты (№ 11Л) тоже был аварийным, с абсолютной копией всех процессов потери устойчивости ракеты № 08Л. Это уже ЧП! Поскольку поиск «под фонарем» электрической причины аварии себя исчерпал, навалились на поиск особенностей конструкции этого района ракеты. И нашли: в качестве материала аэродинамических обтекателей впервые был использован стеклопластик. Методы расчета на прочность и устойчивость этого материала только создавались. Причиной аварий было «прохлопывание» и разрушение обтекателя (в результате аэродинамических нагрузок) и срез его острой кромкой штепсельных разъемов электропитания двигателя РМ, расположенной в III плоскости, т. е. с «наветренной» стороны. Девятый пуск ракеты (№ 09Л) был частично успешным: обе ступени отработали нормально, но … боевой блок получил стокилометровое отклонение от цели. В эти же месяцы, с целью еще большего отрыва от конкурентов, было реализовано повышение энергетики Р-36 за счет удлинения баков первой ступени на 1501 мм. Операция была проведена блестяще – без задержки испытаний ни на один день. Все это, с учетом трех успешных пусков из девяти, дало пищу недоброжелателям Р-36 для усиления в верхних эшелонах власти возмущения ходом работ по созданию этого комплекса. Такая реакция была демпфирована проведением за один июнь трех успешных пусков (ракеты №№ 10Л, 12Л и 13Л). Таким образом, полугодие закончили с «почетным» ничейным счетом 6:6. Но у руководства «осадок-то остался», поэтому министр обороны Р. Я. Малиновский назначил на начало августа (т. е. всего через месяц) на Байконуре смотр ракетной техники – в порядке подготовки к показу высшему руководству страны во главе с Н. С. Хрущевым. Очевидно, этот смотр готовился по определенному сценарию, разработанному под руководством недругов ОКБ-586, курирующих (по своей инициативе или указанию) фирму В. Н. Челомея, т. е. УР-200. Более того, были подготовлены и оргвыводы из показа, в надежде на то, что «неугодная» Р-36 (точнее, ОКБ-586) себя покажет! Цена вопроса та же: ОКБ-586 становится серийным КБ при заводе № 586, выпускающем продукцию ОКБ-52?! Взвесив все «за» и «против», ОКБ-586 предложило пуск ракеты Р-36 произвести в район дальней акватории Тихого океана, т. е. на дальность более 14000 км (вместо 6300 км – по Камчатке). Предложение вызвало шок в рядах как друзей, так и недоброжелателей, но те и другие согласились. Понимая, что результат пуска однозначно определит решение вопроса, но каждая сторона ждала нужный ей результат. Тринадцатый по счету пуск состоялся 5 августа 1964 г. и был исключительно успешным. Через час руководству минобороны показали зафиксированные величины отклонений от цели. Бумага с цифрами (1,3х0,8 км) передавалась от одного VIPа к другому, и, по мнению В. С. Будника (технический руководитель пуска, М. К. Янгель был в отпуске), по мере ознакомления лица вытягивались от разочарования и огорчения срывом «домашней заготовки» оргвыводов. Сентябрьский показ ракет ОКБ-586 руководству страны вообще прошел на «ура», вне конкуренции, поскольку предшествующий пуск УР-200 был аварийным! Подводя итоги борьбы за Р-36 в 1964 г., необходимо, прежде всего, отметить, что непрерывное чередование «успехов-неудач», конечно, отразилось на здоровье Михаила Кузьмича и закончилось декабрьским (третьим!) инфарктом. Естественно, что последние, весьма успешные подряд четыре пуска, в т. ч. на дальность более 14000 км, а также результаты показа, значительно укрепили позиции ОКБ-586 и, в частности, Р-36 в верхах военно-политического руководства страны. По инициативе Д. Ф. Устинова и Л. В. Смирнова в начале 1965 г. (вскоре после октябрьского «ухода» Н. С. Хрущева) была назначена правительственная комиссия под председательством Президента АН СССР М. В. Келдыша для рассмотрения состояния разработок в ОКБ-52 В. Н. Челомея ракетных комплексов УР-100, УР-200 и УР-500. Необходимость прекращения работ по баллистическому варианту ракеты УР-200 ни у кого сомнения не вызывала. Но… В. Н. Челомей привлек в комиссию академика А. И. Савина, Главного конструктора космических систем военного назначения «ИС» и «УС». В качестве ракеты-носителя КА этих систем был прописан соответствующими постановлениями так называемый орбитальный вариант УР-200. Для окончательного решения вопроса о прекращении работ по УР-200 было необходимо согласие А. И. Савина на «пересадку» его КА на другой носитель, конечно, не хуже и в заданный срок – середина 1967 г. (считалось, что УР-200 уже уверенно летает, и нет никаких сомнений в ее состоятельности). Процесс достижения нашей окончательной победы над основным конкурентом подробно описан мной в очерке «Мой наставник доктор Герасюта». Учитывая особую важность («судьбоносность») этих событий, приведем в телеграфном режиме основные моменты «похорон» УР-200: – к работе секции, возглавляемой академиком Б. Н. Петровым, были привлечены Н. Ф. Герасюта и автор данной статьи; – способность («божий дар») Герасюты убеждать кого угодно и в чем угодно, независимо от ранга, возраста и пола, широко известна; – Николай Федорович, находясь «в ударе», убедил всесильного Савина, что РН КА на базе Р-36 орб. – 8К69 – значительно лучше по всем ТТХ, чем «какая-то» УР-200, которую надо похоронить (ЛКИ 8К69 были закончены только в конце 1968 г.); – в августе 1965 г. вышло постановление о создании РН КА «ИС» и «УС» на базе Р-36 с началом ЛКИ в 1967 г. Ведущим конструктором РН был назначен Леонид Данилович Кучма; – эскизный проект РН 11К69 разработан лишь в марте 1966 г.; – Герасюта Савина не обманул: ЛКИ КА «ИС» были начаты без задержки, с автоматизированного старта, с более чем достаточной энергетикой РН, но … на временном носителе 11К67 – 8 успешных пусков; – штатный носитель 11К69 обеспечил более 100 запусков савинских КА – все без замечаний; – за создание космических систем УС-А и УС-П была присуждена Ленинская премия, в числе лауреатов которой были Н. Ф. Герасюта и Л. Д. Кучма. Таким образом, второе поколение МБР, созданное под руководством М. К. Янгеля, состояло из ракет: – Р-36 баллистического варианта (8К67), принята на вооружение в июле 1967 г.; – Р-36 орбитального, глобального варианта (8К69), принята на вооружение в ноябре 1968 г.; – Р-36 с разделяющейся трехблочной ГЧ (8К67П), принята на вооружение в 1970 г. О процессе создания двух последних модификаций Р-36 и сопутствующими ему событиями написан целый ряд статей, очерков, воспоминаний и т. д. Но не могу не привести два эпизода в тему, как штрих к портрету М. К. Янгеля. После итогового заседания в академии имени Дзержинского комиссии по проведению СЛИ 8К69 был устроен, как положено, торжественный «обед» персон на 40 за счет, как у нас принято, ОКБ-586. Для обеспечения финансирования мероприятия М. И. Галась, будучи ведущим конструктором РК, привез соответствующую (немалую!) сумму. Не дождавшись конца торжества, мы подошли к Янгелю, чтобы отпроситься на наш пятничный самолет, поскольку до этого промучились почти восемь недель, согласовывая каждую букву отчета с каждым ее членом. Брать пакет с деньгами Михаил Кузьмич категорически отказался, сказав: «Я получил какую-то премию – 10000 руб., – расплачусь сам (!). Вы летите! Большое спасибо за все!». Вот таким был наш Кузьмич – с врожденной добропорядочностью как в глобальном (государственном), так и в малом (бытовом) плане. Второй эпизод. В одну из пятниц конца 1966 г. поступила команда: завтра в 10.00 в кабинете Главного сбор узкого круга (остряки добавляли – «ограниченных людей»). Вопрос на месте. Это значило, что Михаил Кузьмич привез из Москвы очередную «бомбу». Ровно в 10.00 появился очень серьезный и озабоченный Янгель и без предисловий объявил: «Нас просили (?!) произвести несколько демонстрационных пусков РГЧ, причем обязательно раньше американцев». В США велись работы по двум типам трехблочных РГЧ: – рассеивающего типа – для установки на БРПЛ «Поларис АЗТ». Начало летной отработки РГЧ в специализированном центре – июль 1967 г.; – с индивидуальным наведением боевых блоков – ГЧ Мк-12 – для оснащения «Минитмен-3». Первый пуск ракеты с ГЧ Мк-12 планировался на август 1968 г. «Взвесив и обсудив», совещание пришло к выводу: имея нулевой задел и отсутствие аналогов, единственный путь выполнения просьбы – это проведение через восемь месяцев (!) первого показательного пуска экспериментальной трехблочной (min) РГЧ рассеивающего типа на ракете 8К67, располагающей для этого избыточной энергетикой. Очевидно, что при нормальной схеме работы о восьми месяцах не может быть и речи! Задача должна была решаться в основном силами нашего коллектива! В результате рассмотрения ряда вариантов принципиальной конструктивной схемы был принят предложенный начальником отдела динамической прочности В. А. Серенко способ разведения за счет сил инерции: скатывание блоков по наклонным направляющим в момент действия максимальной осевой перегрузки, возникающей в конце активного участка полета при работе маршевого и рулевого двигателей второй ступени. Проработав все вопросы динамики ракеты: управляемость, устойчивость, точность стрельбы, а также объем доработки аппаратуры СУ, мы доложили Михаилу Кузьмичу, что вполне можно уложиться в 2-3 месяца max. Прибывший В. Г. Сергеев, прослушав доклад, одобрил идею, но заявил, что ему потребуется не менее восьми (!) месяцев. Янгель внешне спокойно его выслушал, но, уединившись с автором этих строк, потребовал подтверждения нашей оценки сроков. Удовлетворившись ответом, он попросил харьковчан удалиться, встал над сидевшим Главным конструктором СУ и раздраженно произнес: «Сергеев, ты хочешь с нами работать и делать то, что нужно в установленные сроки? Или, катись ты к …!». Тот, без задержки: «Да, да, Михаил Кузьмич. Я все сделаю!». И сделал – за два месяца! Мощь и сила коллектива ОКБ-586, организованного и воспитанного М. К. Янгелем, состояла в том, что коллеги безоговорочно верили Главному, а он – подчиненным, даже более, чем специализированной смежной организации! Работа в ОКБ-586 совместно со всеми соисполнителями по улучшению ТТХ ракеты 8К67 в качестве базы для создания РН КА продолжалась еще много лет после сдачи ее на вооружение. Так, были созданы и сданы в эксплуатацию РКК «Циклон-2» (11К69) и «Циклон-3» (11К68). Две первые ступени ракеты Р-36 используются в настоящее время при создании совместно с Бразилией перспективного РКК «Циклон-4». В 1968 году М. К. Янгель приступил к выработке принципиально новой концепции построения комплексов МБР третьего поколения, а также всей системы ракетного вооружения страны. Суть предлагаемого пути модернизации существующих комплексов жидкостных МБР и разработки новых, в том числе МБР на твердом смесевом топливе, сводилась к пяти основным пунктам: – минометный старт из ТПК; – упрочнение существующих ШПУ в десятки раз; – применение БЦВМ; – боевое оснащение многоблочными РГЧ с индивидуальным наведением боевых блоков на цели; – испытательно-пусковая аппаратура, устанавливаемая на ТПК в условиях ракетного завода. Процесс отстаивания Михаилом Кузьмичом каждого из этих пяти принципов и концепции в целом как внутри КБ «Южное», так и в спорах с нашими традиционными смежниками, а также перипетий, связанных с согласованием концепции в МОМ и МО, красочно и подробно описаны в упомянутой в начале статьи книге Л. В. Андреева и С. Н. Конюхова «Янгель. Уроки и наследие». Из-за ограниченного объема статьи – повторения излишни. Генеральное сражение (Крымская битва) с В. Н. Челомеем – ярым противником М. К. Янгеля и его концепции – состоялось в конце августа 1969 г. на Совете обороны под председательством Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Победа была убедительной: подводя итоги заседания, Л. И. Брежнев объявил окончательное решение – работать по концепции, предложенной М. К. Янгелем! В сентябре 1969 г. – через месяц после заседания Совета Обороны – вышло постановление о создании комплекса МБР Р-36М (15А14). Тогда же была написана и отправлена в Президиум ЦК КПСС «Техническая записка» КБ «Южное» с предлагаемым способом модернизации УР-100 по концепции Михаила Кузьмича – модернизированные ракеты МР-УР100 (15А15) и МР-УР100 УТТХ (15А16). По рассмотрению этой записки работала комиссия ВПК под председательством вице-президента АН СССР А. П. Александрова. Председателем секции был академик В. П. Макеев, который предложил, не меняя указанных ТТХ МР-УР100, установить в ГЧ еще один четвертый боевой блок, что и было немедленно сделано в результате совместной работы макеевских и янгелевских проектантов. Продолжалась «малая гражданской война», расколовшая ракетный мир СССР на два лагеря. Один – М. К. Янгель при активной поддержке Д. Ф. Устинова, Ю. А. Мозжорина (ЦНИИмаш), Л. В. Смирнова (ВПК), М. В. Келдыша (АН СССР), Н. А. Пилюгина, В. Г. Сергеева, В. П. Макеева и других. Другой – В. Н. Челомей при активной поддержке маршала А. А. Гречко (МО) и пассивной – его подчиненных, С. А. Афанасьева (МОМ), В. И. Кузнецова, Е. Г. Рудяка и других. В августе 1970 г. вышло постановление о создании МР-УР100 с соответствующей модернизацией примерно 150 шахтных пусковых установок челомеевских ракет УР-100. Часть своих ШПУ В. Н. Челомей успел оснастить ракетами УР-100К (1971 г.) и УР-100У (1973 г.). Остальные ШПУ в 1975-1978 гг. были укомплектованы ракетами УР-100Н с реализацией шестиблочных РГЧ, БЦВМ и значительным упрочнением шахтных ПУ, но с газодинамическим стартом. Кстати, в ракете УР-100Н Челомей применил «командное ядро» (гиростабилизатор + БЦВМ) ракеты Р-36М! Таким образом, и «малая гражданская война» закончилась полной и окончательной победой Михаила Кузьмича Янгеля – страстно преданным делу Человеком, приверженность которого идее создания актуальных, самых лучших в мире МБР и всей системы вооружения РВ – вызывали глубокое уважение. Методы и способы воплощения этой идеи – «несмотря ни на что» (в т. ч. свое здоровье и даже жизнь – пять инфарктов) – вызывали восхищение. К великому сожалению, он не успел увидеть материальное воплощение своей доктрины, которое для него было бы самой большой наградой. Но это сделал В. Ф. Уткин – последовательный продолжатель воплощения идей Янгеля. Все начатые Михаилом Кузьмичом работы были блестяще завершены с доведением их до совершенства. Был создан комплекс самой лучшей в мире жидкостной МБР тяжелого класса – Р-36М2 (15А18М). Этот комплекс является непревзойденным по своим тактическим, техническим, эксплуатационным, энергетическим, экономическим и другим характеристикам, в т. ч. – по надежности. После 25-летнего нахождения на БД с 62-секундной готовностью к пуску из холодного (обесточенного) состояния, ракета успешно использовалась в коммерческих целях в качестве ракетыносителя под названием «Днепр»! Комплекс МБР Р-36М2 является самым лучшим памятником Михаилу Кузьмичу Янгелю − Конструктору от Бога, Ученому, Лидеру, прекрасному Человеку, выдающейся Личности. Вечная память о нем – руководителе, учителе, коллеге – всегда с любовью и глубоким уважением. Июль-август 2011 г. |
|