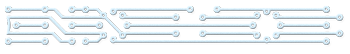|
|
|
|
|
|
|
|
А.С. Гончар
© Гончар А.С., 2008
Наш адрес: ruzhany@narod.ru |
День в ноябре короткий. Выселенные из своих домов жители поселка стали непрерывно звонить Матренину, и министр, в свою очередь, непрерывно звонил. В общем, к тому моменту, когда мы преодолели все препятствия и вышли на готовность к пуску, и осталось только дать команду, Матренин вызвал меня и предложил отложить прожиг. Теперь уже я стал настаивать и в результате Матренин пригласил двух полковников — пожарных и сказал: «Решай с ними!» Оказалось, что вода в брезентовых шлангах, проложенных на улице при пробном ее пуске, замерзла, образовав кольца льда и целые пробки. В этом мы убедились, выйдя на улицу — я наступил на шланг и раздался треск льда: работать в такой ситуации было опасно. Пришлось, скрепя сердце, откладывать пуск, а это чрезвычайно неприятно. Тот, кому доводилось быть виновником, помнит, что недовольны все участники работ, недовольны наблюдатели, истрачено много расходных материалов. В данном случае это были жидкий кислород и жидкий гелий, только последнего было потрачено более тонны. О нашем решении, по переносу пуска, на целую неделю, Матренин сообщил министру. Олег Дмитриевич пригласил меня к телефону и, вопреки ожидаемым упрекам, стал меня успокаивать и говорить, что в таких случаях лучше не рисковать, хорошо разобраться и уже уверенно идти на прожиг. Покинуть Загорск он мне не разрешил, и мы стали каждый день тренироваться в пуске и, по закону вредности, все шло без задержек. Как потом мне рассказал В.М.Михайлов, Сергеев, по-видимому, имел неприятный разговор с министром, который потребовал личного присутствия Сергеева при следующем пуске. Владимир Григорьевич, в свою очередь, дал разгон В.Страшко за отсутствие в Загорске запасной аппаратуры машины СМ-2, и Володя вынужден был остановить один из двух стендов блока «А» и срочно отправить в Загорск наиболее важные блоки. Думаю, что министр пригрозил Сергееву очень серьезно, так как я редко видел его таким взволнованным. Когда утром очередного воскресенья, на удивление, без малейших осложнений система вышла на пуск, я собрал всю свою команду по счету и пришел в бункер, где у амбразуры уже собралось руководство. Владимир Григорьевич, стоявший в первых рядах, протянув руку, схватил меня за рукав и поставил рядом, спросив при этом: «Ты видишь все?» Я обратил вначале внимание на тоненькую березку, росшую на склоне у края амбразуры, и ответил: «Вижу березку!» Шеф сердито взглянул на меня: «Ты еще можешь сейчас шутить!?» В тот момент я был действительно спокоен и был уверен, что машина М-4М надежно выполнит свои функции. Прозвучала команда «пуск», струи воды хлынули по кольцу, окружавшему двигатель, раздался мощный толчок и вот уже бушующее пламя из четырех камер двигателя победно гремит, окутывая все вокруг клубами пара и дыма, заполнившими овраг и весь окружающий лес. Четко видно как покачиваются сопла — идет снятие частотной характеристики рулевого привода при реальных условиях работающего двигателя, гул и пламя двигателя то усиливается, то затухает — работает привод управления тягой. Сто двадцать секунд проходят быстро, двигатель выключается, что-то еще горит внизу, а все участники бросаются шумно поздравлять друг друга. Мы с Владимиром Григорьевичем как победители появляемся в министерстве. Шеф был очень доволен, но у меня все равно не хватило смелости расспросить о его разговоре с министром, на многочисленные намеки он не реагировал. Можно только предполагать, что взаимоотношения между министром и Сергеевым, которые были далеки от дружеских еще со времен, когда Бакланов был директором завода им. Шевченко, с этого момента стали резко ухудшаться. Трудно было предположить, что в июле следующего года, из-за расхождения в сроках готовности программно-математического обеспечения на два-три месяца, Бакланов решит снять Сергеева с должности Главного конструктора предприятия. Отставание в ходе работ по «Бурану» не было обусловлено задержками работ по системе управления носителя 11К25. Еще в июле 1985 года, т.е. за четыре месяца до первого прожига блока «А», было принято вынужденное решение о первом запуске носителя 11К25 без орбитального корабля, работы по которому отставали более чем на год, и к этому наша фирма не имела отношения. Если же говорить о причинах отставания в работах по носителю, то основной причиной были двигательные установки, особенно кислородно-водородный двигатель Конопатова 11Д122. Внеплановое развертывание нами в Химках и Нижней Салде систем аварийной защиты только способствовало ускорению отработки двигателей. Игорь Трегубов, главный разработчик этой системы, накопил богатый статистический материал, из которого следует, что САЗ десятки раз предотвратила аварийное развитие событий, сэкономив время и средства. Не исключено, что некоторая недоброжелательность Бакланова к Сергееву и к нашей организации зародилось гораздо раньше. Я помню случай, имевший место вскоре после выхода Постановления правительства по ракете 15А14 и защиты эскизного проекта. В кабинете Владимира Григорьевича проходило совещание, на котором присутствовали представители КБ «Южное» и директора заводов, которым предлагалось делать аппаратуру системы управления, военные и сотрудники ВПК. Слушался доклад Н.Ф.Герасюты по общим характеристикам ракеты, затем мой доклад о построении системы разведения кассетной боевой части и точности стрельбы, и последним пунктом — предложение о размещении изготовления аппаратуры на серийных заводах. После завершения своего выступления, Герасюта предложил мой вопрос рассматривать последним, имея в виду, что данные по точности стрельбы, как и размеры площади, на которой могут располагаться цели, поражаемые кассетной боеголовкой, обычно выносятся в специальный том, имеющий высший гриф секретности «особая папка», и директорам серийных заводов знание этих данных необязательно. Предложение было принято, и после решения вопроса о размещении изготовления аппаратуры, Сергеев объявил, что директора заводов, их было человек 5-6, свободны. Однако Бакланов — директор завода им. Шевченко, захотел остаться, но Сергеев, а затем и Айзенберг, решительно этому воспротивились, причем в довольно бесцеремонной форме и Бакланов недовольно покинул кабинет. События по снятию с должности директора и Главного конструктора В.Г.Сергеева, и назначение на эту должность Главного конструктора серийного завода «Коммунар» А.Г.Андрущенко, который был совершенно незнаком со сложной и многогранной тематикой нашего предприятия, притом, что у нас на фирме было много опытных, знающих, талантливых людей, заставляет задуматься. Я еще вернусь к этому вопросу. Решение об опережающем запуске носителя без орбитального корабля было принято 20 июля 1985 года на совещании в Филях, которое проводил лично министр. Очевидно, у него предварительно состоялся разговор с Д.А.Полухиным и В.П.Глушко, так как уже были нарисованы плакаты с кораблем «Скиф 19-ДМ», по которым и рассматривалась суть предложения. Бакланову требовалось показать ЦК и Правительству, что назначение его министром общего машиностроения, наконец, вывело «Энергию-Буран» на этап огневых прожигов и летных испытаний. С другой стороны, требовалось сформировать предложения, которые могли противостоять выдвинутой Рейганом в начале 80-х годов стратегической оборонной инициативе (СОИ), основной целью которой была попытка США совершить мощный военно-технический рывок в будущее. СОИ аккумулировала в себе целый ряд важнейших направлений в развитии новейшей технологии, в целом направленных на достижение безусловного военного превосходства. Финансировалась эта программа весьма щедро — на десятилетие более 50 млрд. долларов только на исследовательские работы. У нас в ответ появилась научно-исследовательская работа под индексом «Скиф», предполагавшая создание автоматического космического корабля, вооруженного мощной лазерной установкой, способной поражать цели в космосе и в верхних слоях атмосферы на удалении до 300 км. Разработку системы управления поручалось выполнить нашей организации, конкретно, моему восьмому комплексу в качестве головного по теме. При колоссальной загрузке комплекса темами «Алмаз» (пуски «Космос-1443»,»Космос-1686» были произведены в 1983 и 1985 годах соответственно) и, особенно, «Энергия-Буран», работы разворачивались медленно, а Олегу Дмитриевичу нужно было продемонстрировать активность и внутри, и вне страны.
Таким образом, суть решения 20 июля состояла в создании действующего макета такого корабля и демонстрации его возможностей. В качестве основы был взят наш транспортный корабль, к которому пристыковывался дополнительный отсек с лазерной экспериментальной установкой, состоящей из мощной турбины с электрогенератором и лазером, правда только той его частью, которая осуществляла поиск цели и наведение на нее боевого луча. В качестве целей использовались десять надувных металлизированных шаров, поочередно, по командам с Земли, запускаемых с этого корабля. Для нашей организации возникли трудности двух аспектов: во-первых — изготовление аппаратуры ТКС было прекращено еще в 1981 году и его восстановление было чрезвычайно сложной задачей; во-вторых, требовались значительные доработки, как аппаратуры, так и программно-математического обеспечения. Об этих проблемах я доложил министру на совещании. По первому вопросу было принято решение использовать оставшуюся аппаратуру наших стендов и стенда в головной организации, сохранившихся, несмотря на приказ по министерству с оговоркой: «Задел уничтожить». По второму вопросу министр, как это и положено, предложил разработать перечень мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в установленный им тут же срок — один год. Перечень был разработан и направлен в министерство, где и был похоронен среди прочих аналогичных дел. Корабль получил индекс «Скиф 19-ДМ», а на самом корабле, изготовленном заводом им. Хруничева, было написано «Полюс». Общий вес корабля достиг 80 тонн, что было вполне приемлемо для «Энергии», которая под номером 6СЛ определялась для его выведения. Таким образом, ракета-носитель 11К25 в качестве первого полезного груза получила корабль «Полюс». Размещался он на боковой поверхности блока «Ц» вдоль его образующей, крепился с помощью тех же устройств, что и штатный груз — корабль «Буран», и при общей протяженности около 47 метров вполне ему соответствовал. Ряд конструктивных особенностей «Полюса» и требований со стороны ракеты-носителя по центровке привели к тому, что отсек с маршевыми двигательными установками располагался впереди. Поэтому при выведении корабля на орбиту необходимо было повернуть его на 180° в плоскости тангажа, и именно эта операция, в конце концов, привела к его гибели. Корабль имел четыре маршевых двигателя, 20 двигателей ориентации и стабилизации и 16 двигателей точной стабилизации. Маршевые двигатели использовались для маневров корабля на орбите и для его «довыведения», так как носитель 11К25 не должен был достичь орбитальной скорости и остаться на орбите, а должен был упасть в океан на удалении 18-19 тысяч километров. Работы по кораблю «Полюс» велись под личным контролем министра, который проводил по четвергам оперативные совещания на заводе им. Хруничева, изредка его заменял О.Н.Шишкин. Эти оперативки были действенным средством ускорения работ — все возникающие затруднения устранялись мгновенно, негласно действовал лозунг «Денег не жалеть!» Конечно, поработать пришлось не щадя ни сил, ни здоровья. На стендах в 3-м и 8-м отделениях, на которые легла основная нагрузка, работа шла и днем и ночью, общий контроль был возложен на главного инженера предприятия В.Н.Горбенко. И это было большой ошибкой А.Г.Андрущенко. Горбенко не имел опыта подобных работ. Проводимые им оперативки, в основном были направлены на выполнение сроков, а техническое содержание принимаемых решений оставалось без необходимого контроля. Предполагалось, что использование штатной системы ТКС гарантирует от ошибок. Особенности схемы полета, в конечном итоге, не были учтены. Вне поля зрения осталась команда, выдаваемая системой управления по переходу к стабилизации с помощью «малых» двигателей в момент раскрытия солнечных батарей штатного ТКС. На корабле «Полюс» эта команда пришлась на момент поворота на 180°, и «малые» двигатели не могли остановить его вращение, так что выданный затем доразгонный импульс не выполнил своей роли. Труднейшая и громадная работа десятков и сотен специалистов, работавших одновременно над двумя масштабными работами «Полюс» и «Энергия» и блестяще их выполнившими, оказалось, была проведена впустую. Опыт «Полюса» еще раз показал, что нет простых работ в ракетно-космической технике, даже если они повторяют выполненные ранее работы, и что их нельзя поручать новым людям, тем более не имевшим нужных знаний и опыта. Такие специалисты как Шепельский, Страшко, братья Трегубовы, Ковтун и ряд других, фактически оказались отстраненными от активной работы, особенно на этапе ее стендовой отработки. Нужно отдать должное А.Г.Андрущенко, он сумел однозначно установить виновника неудачи. Когда Горбенко, пытаясь оправдаться, стал называть ряд фамилий, включая мою, Анатолий Григорьевич определил степень его вины ста процентами. Он понимал, что руководитель такой работы должен понимать полет корабля, как мать понимает своего еще бессловесного ребенка. К исходу 1985 года относится определенное оживление в нашей космической деятельности и, в частности, по комплексу «Энергия-Буран». Прожиг блока «А» имел к этому прямое отношение. По сути дела, наши коллеги в Днепропетровске сделали этим два важных дела. Успешно прошли огневые испытания блока, который, с одной стороны, являлся первой ступенью «Энергии» в качестве так называемой «модульной части»; с другой стороны, это была первая ступень ракеты-носителя, которая позже стала известна как «Зенит», и на многие годы явилась самым совершенным носителем этого класса. В ноябре месяце состоялся и первый полет корабля «Буран», так называемые горизонтальные испытания, а в декабре состоялся его перелет на Байконур с одним отказавшим двигателем. В течение 1986 года было проведено еще три огневых запуска блоков «А» в Загорске. Я неизменно был вместе со своими коллегами при этих работах, которые способствовали росту и набору опыта молодыми специалистами. Особенно в эти дни выросли Саша Мельник и Володя Шевелев. Им уже можно было поручать любую работу и Саша Мельник уже без прежнего страха, но с должным уважением и достоинством мог разговаривать с руководителем любого ранга и больше не спрашивал у меня: «Андрей Саввич, как Вы можете так разговаривать с заместителем министра?», а мне отвечать: «Я здесь главный!» В эти дни наши коллеги за океаном успешно запускали свой «Shuttle», доведя общее количество запусков почти до тридцати. Они уже облетали «Columbia» (8 запусков), «Discovery» (8 запусков), «Challenger» (10 или 12 запусков), «Atlantis» (3 запуска). После каждого такого запуска высшее руководство выдавало очередную порцию упреков в наш адрес, но после аварии «Challenger», унесшего жизни семи астронавтов, всем стало ясно, к чему может привести спешка. Нужно сказать, что взрыв твердотопливного двигателя в полете на глазах многих тысяч зрителей, включая членов семей погибших, потряс нас и заставил по-новому взглянуть на то, что мы делаем. Только в громадной ракете, не считая стартовых емкостей, находилось около двух тысяч тонн самого прекрасного горючего. Тротиловый эквивалент приближался к ядерному заряду по своей мощности, а взрывы ракет, на старте или в первые секунды полета, были обычным делом. По данным статистического отчета, выпущенного институтом Мозжорина, при первых пяти пусках, как в СССР, так и США, обычно, 1-2 пуска были аварийными, первых десяти — 3-4, а всего при летных испытаниях процент аварий колебался между 15 и 20. Когда заседала Государственная комиссия по пуску первого «Бурана», я сидел рядом с Юрием Александровичем и спросил его, помнит ли он этот отчет и данные, приведенные в нем. Он мне ответил: «Ты знаешь, я сижу и переживаю, кто из членов комиссии мог его читать?» Вопрос о надежности первых пусков как «Энергии» с «Полюсом», так и «Энергии» с «Бураном», стоял очень остро. Живы в памяти были еще картины взрывов королевской Н-1, а разрушенный старт — будущая правая «нитка» стартовой позиции «Бурана», все еще возвышался грудами железобетона и покореженной арматуры. Возможные последствия взрыва, оценка которых была произведена специальным институтом, оказалась несколько успокаивающей. Все горючее не могло взорваться сразу, взрыв мог иметь мощность максимум эквивалентную 800 тонн тротила, остальное должно было быть разбрызгано вокруг или просто сгореть. Бункер, расположенный на УКСС в пяти километрах от старта, вообще был вне досягаемости, а бункер стартовой позиции, расположенный в километре от нее, был достаточно надежен. Но все это было еще впереди. Полеты американских «Shuttle» пока что обнадеживали, и в конце 1985 года нашей первоочередной задачей, после удачного прожига блока «А», был прожиг блока «Ц». Эта задача усложнялась тем, что на блоке устанавливались четыре двигателя на компонентах кислород- водород, сами двигатели были достаточно «сырыми», т.е. не имели еще нужной наработки на ресурс. Наша организация практически не отставала ни по аппаратуре, ни по математике, как вкратце называлось программно-математическое обеспечение. Для огневых испытаний предназначался центральный блок «Ц» в составе полностью собранного «пакета», т.е. с пристыкованными макетами блоков «А» и силового блока «Я». Собранное таким образом изделие имело индекс С-5. Его испытания на технической позиции проходили в тот момент, когда я находился в Загорске. На полигоне нашу экспедицию возглавлял мой заместитель В.А.Черняк — способный и распорядительный инженер. Руководителем всех работ был П.Н.Потехин — начальник главка нашего министерства. Павел Никитич завоевал известность благодаря «потешной» или «потехинской» ракете, что звучало почти одинаково. С целью кажущегося ускорения работ его административный ум додумался до того, что он принял решение начать электроиспытания блока «Ц» и электрически связанного с ним блока «Я» еще до сборки «пакета». Для этого все разрозненные агрегаты — хвостовой отсек, баки, центральный отсек и т.д., находившиеся на разных стапелях сборки на удалении 30-50 метров, он приказал соединить специально изготовленными кабелями, подключить все это к наземной проверочно-испытательной аппаратуре и параллельно со сборочно-монтажными работами вести электроиспытания. Я не могу понять, как Потехину удалось провести в жизнь это решение, над которым потешался весь полигон и против которого все хором возражали. Дело в том, что вся аппаратура, все электроагрегаты были рассчитаны только на определенные длины кабелей, повышать же напряжение источников питания вообще было недопустимо. Кабели — удлинители были изготовлены там же на полигоне и обошлись более чем в миллион рублей. Наши проверочные режимы, как и следовало ожидать, не «пошли», а попытка обвинить нас в их некачественной отработке вызвала только недоуменный вопрос Бакланова: «Кто это придумал?» Черняку пришлось вначале вести борьбу с Потехиным, а затем оправдываться, дипломатично пытаясь не подставить его перед министром. С трудом удалось при этой схеме провести самый первый и самый простой режим «контроль стыковки», а затем списать все кабели-удлинители и провести электроиспытания после сборки «пакета». Павел Никитич был отозван с полигона, а Черняку пришлось еще долго доказывать, что это не он вместе с Потехиным придумал «потешную ракету».
Павел Никитич был неплохим человеком и администратором, но в технику он напрасно вмешивался вопреки мнению специалистов и, вообще, по-моему мнению, занимался тем, чем не следует заниматься начальнику главка. Однажды я зашел к нему в кабинет в министерстве и увидел несколько плакатов, висевших на доске и спускавшихся до самого пола. Это были таблицы с перечнями комплектующих ракету деталей, со сроками их поставки и т. д. Я был удивлен, что он занимается такими мелочами и, пользуясь нашими добрыми и простыми взаимоотношениями, довольно бесцеремонно посоветовал ему передать эту работу любому клерку в его главке. Когда я через некоторое время зашел к нему, этих таблиц уже не было. С огневым прожигом блока «Ц», намеченным на конец 1985 года, не успевали все дружно, в том числе и мы с математикой. Выход мы нашли в том, что на полигон была отправлена технологическая математика, которая позволяла вести все электроиспытания, включая комплексные, генеральные комплексные и огневые уже с «прожиговой» математикой. Естественно, эти программы включали в себя запуск и останов двигателей, управление расходом топлива, рулевыми приводами и аварийную защиту, т.е. были относительно простыми, так как не содержали сложных алгоритмов управления полетом. Отработку программ огневых испытаний пришлось вести форсированными методами. Я завел такой режим работы: испытатели на стендах и телеметристы работали в две смены по 12 часов. Руководство и военное представительство в шесть часов вечера на 2-3 часа уходило домой, а затем возвращалось на работу. Военные зачастую прибегали к такой тактике: к исходу дня задавали несколько вопросов, на которые следующим утром должны быть даны ответы или представлены материалы конструкторами либо разработчиками. В ответ я спрашивал: «Кто нужен?»,- и посылал за ним дежурную машину, а задавший вопрос военпред понимал, что к моменту приезда вызванного специалиста нужно быть на рабочем месте. Заключение на допуск аппаратуры и программ к огневым испытаниям я подписал у военного представительства в четыре часа утра и тотчас же проинформировал об этом Сергеева, который находился на полигоне (там было уже 6 часов утра) и должен был доложить о готовности министру на совещании, назначенном на 10 часов. Шеф был удивлен и на вопрос, «Как тебе это удалось?», я ответил: «Военпреды тоже люди и хотят спать!» Изготовление блоков памяти с прожиговыми программами было выполнено к исходу января 1986 года. К этому времени Лящеву и Черняку, которые находились на полигоне, приходилось с трудом отбиваться от требования замены технологических блоков памяти на прожиговые. Меня в течение суток беспрерывно вызывали «на связь» и приходилось бежать из 13 цеха, где шло изготовление и прием-сдача этих блоков, в приемную Сергеева, где стоял аппарат в/ч-связи. В это время и Лящев, и Черняк окончательно рассорились с руководством испытаний и с главным инженером нашего главка Г.В.Семеновым. Параллельно шло формирование боевого расчета на проведение огневых испытаний. Это была обычная процедура, и я не знаю, почему Лящев отказался назначить в боевой расчет наших испытателей. Вопрос обострился до такой степени, что Геннадий Васильевич, обычно спокойный и уравновешенный человек, вышел из себя, отобрал пропуска у Лящева и Черняка и приказал им отправиться в Харьков, а мне было дано указание срочно вылетать на полигон. Я еще задержался на один или два дня, понимая, что мне без блоков памяти лучше не появляться. Прилетев на полигон, я отдал свой портфель встретившей меня Иннесе, а сам с блоками памяти поехал на УКСС, минуя выносной командный пункт, где обычно находилось руководство. Первое, что я увидел на проходной УКСС, было нечто среднее между стенгазетой и «боевым листом», где о Лящеве, обо мне и всей нашей организации было написано стихотворение, в котором довольно метко рифмовались наши фамилии, поставляемые приборы и обещания Лящева. К сожалению, я не запомнил и не записал это стихотворение. Приборы я сразу же пустил в установку на изделие и только после этого уехал на ВКП. Это было 28 или 29 января. В этот день стало известно о взрыве американского «Challenger» на 72 секунде полета и гибели семи членов экипажа, включая женщин, на глазах у тысяч зрителей. Когда я зашел в кабинет А.А.Макарова, там обсуждали этот случай, и я узнал подробности, которые были им известны. Некоторое время в кабинете, где собралось человек 15-20, царило тягостное молчание. Этот случай многие расценивали как плохое предзнаменование для наших работ. Как-то все наши заботы о сроках, о программах и т.д. отошли на задний план, все задумались и особенно ясно представили, насколько ответственный для нас наступает момент. Разговор переключился на систему заправки, которая также не была полностью отработана, подсчитали, сколько уже в хранилищах накоплено компонентов и т.д. Нужно сказать, что подобные аварии с человеческими жертвами, которые имели место у нас, как правило, становились известными, так как по ним выходил закрытый приказ по министерству, требующий принятия мер, усиления бдительности и ответственности. В некоторых случаях происшествия и вне СССР в том или ином виде находили отражение в официальных материалах. Так было, если мне память не изменяет, в случае с гибелью трех американских астронавтов при пожаре в корабле «Apollo» и, в данном случае, при аварии «Challenger». В первом случае американцам, в какой-то мере, была оказана помощь в виде передачи рецептов и технологии смеси газов для дыхания экипажа. Случай с «Challenger» не только вызвал целую серию мероприятий, проверок, комиссий и подкомиссий, но и заставил задуматься и сделать все возможное для предотвращения аварий, что было в наших силах. В последующие дни стали поступать более подробные сведения об аварии и, в частности, о падении корабля в Атлантический океан в 29 километрах от старта, о создании Рейганом комиссии по расследованию причин аварии во главе с Роджерсом. Заключение комиссии было опубликовано только 6 июня. Из него следовало, что и раньше были отклонения в работе бустеров, но в данном случае американцы поступили чисто по-русски: летает, ничего не случается, ну и пусть летает. Тем не менее, работы по ракете С5 продолжались без существенных отклонений. 18 февраля я позвонил в Харьков и сообщил Владимиру Григорьевичу, что огневые испытания назначены на 22 февраля, и пора ему вылетать. Сергеев приехал в день запуска на орбиту станции «Мир» — 20 числа. Запуск мы наблюдали издали. Для меня, после испытаний двигателей в Н. Салде, новым было только то, что теперь их было четыре. В работе автоматики запуска двигателей и САЗ я не сомневался, но общая обстановка была нервной. Большое беспокойство вызывало «зависание» бортовой вычислительной машины, которое было обнаружено накануне и проявлялось в том, что машина вдруг прекращала работу. Опасность для ракеты заключалась в том, что работа двигателей не управлялась системой регулирования соотношения компонентов топлива и должна была продолжаться до полного его выгорания. Это грозило взрывом из-за того, что компоненты могли быть израсходованы не одновременно и, наконец, в случае аварийной ситуации команда системы аварийной защиты не будет выполнена. Выход из этой ситуации заключался в том, что в срочном порядке было изготовлено два дополнительных прибора, которые должны были зафиксировать «зависание» машины и выдать команду на выключение двигателей, т.е. на аварийное прекращение огневых испытаний. Насколько надежно эти два прибора выполняют свои функции, было не совсем ясно, так как природа этого «зависания» была не вполне изучена. Эти приборы я привез вместе с блоками памяти, но установка их на борт потребовала значительных усилий по преодолению естественного, в таких случаях, общего недоверия к аппаратуре. Слухи о возможном «зависании» уже дошли до полигона, такой же дефект был обнаружен и на машинах разработки института Н.А.Пилюгина. На одном из оперативных совещаний я доложил о дефекте и здесь же о мерах по его парированию, требующих установки приборов на борт и доработки кабельной сети. Раздались недовольные голоса в наш адрес, как и в случаях, когда я вынужден был по результатам испытаний говорить о необходимости доработок или замены приборов. Обычно хор этих голосов инспирировал Б.И.Губанов. Я, стоя у трибуны, спокойно их выслушивал и, выждав момент их относительного успокоения, повторял опять свое предложение, чем вызывал уже менее бурный взрыв, и так в 3-4 приема все приходило в норму, и оперативка принимала нужное решение. Такая тактика давалась нелегко, но она оказалась единственно правильной и целиком себя оправдала.
|