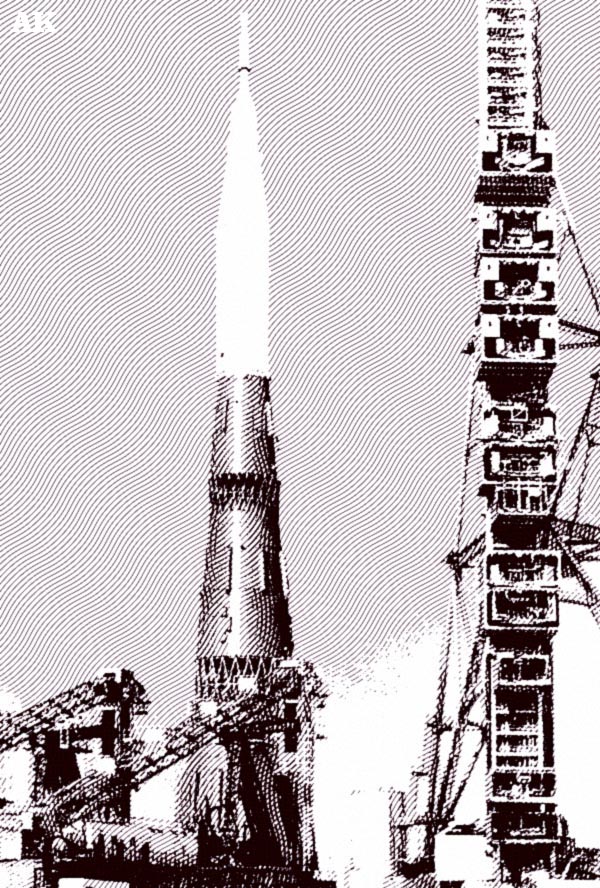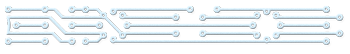|
|
|
|
|
|
|
|
А.С. Гончар
© Гончар А.С., 2008
Наш адрес: ruzhany@narod.ru |
Становление |
|
Казалось, что мы прочно заняли ведущее место в ракетно-космической технике, но уже в 1962 году появились первые признаки нашего отставания. В мае стартует «Центавр», с двигателем на водороде и кислороде, в 1964 году «Сатурн» выводит на орбиту ИСЗ весом 8 тонн, предвосхищая полет «Сатурна-5» в 1967 году — мощной ракеты-носителя программы «Apollo». Вместо того чтобы сосредоточить усилия ракетно-космической промышленности на лунной программе в 1964 году выходит Постановление правительства о начале работ фирмы Челомея по ракетно-космической программе «Алмаз», по сути дела дублирующей работы Королева. Характерным в этом плане было высказывание Н.А.Пилюгина, как всегда меткое и полное сарказма. На НТС министерства рассматривались вопросы распределения массы мелких работ по космосу среди предприятий отрасли. В зале висело множество плакатов с планами и графиками работ. Кто-то из присутствующих задал вопрос: «Существует ли долгосрочная космическая программа в СССР?» Николай Алексеевич встал, широким жестом показал на все плакаты: «А вот здесь она размазана тонким слоем!»
Сказывалась слабость отраслевого НИИ и министерства, всесилие Главных конструкторов. В области пилотируемого космоса особенно остро ощущалось отсутствие долгосрочной программы исследований. В то время как в Штатах основной программой государственного масштаба была лунная программа. Ей было подчинено все, и промышленность работала только на нее. У нас только Королев со своими традиционными смежниками пытался осилить эту задачу. Ни Челомей, ни Янгель не привлекались должным образом к этим работам. Челомей пытался вести свою параллельную лунную программу, но дальше проектных проработок пойти не успел. Королев вынужден был привлечь к разработке двигателей для ракеты-носителя Н1 новую в ракетной технике организацию Министерства авиационной промышленности Н. Д. Кузнецова вместо испытанной фирмы В. П. Глушко. Причиной этой замены, фатальной для всей разработки, были разногласия между Королевым и Глушко о компонентах топлива для этой ракеты, а авторитетный арбитр отсутствовал. Следствием этого явилось то, что, во-первых — разработка ракеты-носителя Н1 сильно отстала от намеченных сроков, а во-вторых, при летных испытаниях аварии следовали одна за другой, в том числе и с взрывом на стартовой позиции, разрушившим дорогие и трудоемкие сооружения старта, что задерживало на многие месяцы проведение дальнейших работ.
Работы же по теме УР-500К-Л1, предусматривавшей облет Луны двумя космонавтами и имевшей шанс на успех, начались со значительной задержкой опять же по вине королевского ОКБ-1, в основе которой лежало нежелание делить славу с ОКБ-52 Челомея, создавшего еще в 1965 году пригодную для этой цели ракету-носитель «Протон», выводившую на околоземную орбиту полезный груз массой до 20 тонн. Таким образом, вместо того, чтобы направить все силы на координирование и подчинение общей цели всех отраслей мощной ракетно-космической промышленности, ОКБ-1 и вновь созданное в 1965 году Министерство общего машиностроения с завидным упорством продолжали пуски кораблей «Восток», «Восход», «Союз» с задачами одновременного полета кораблей «Восток-3,4», полета женщины («Восток-6»), полета трех космонавтов («Восход-1») и т. д.
Если посмотреть, что же делалось за океаном в это время, то станет ясно, что, повторив полеты Гагарина и Титова, американцы приступили к подготовке своих космонавтов для выполнения основной задачи — полета к Луне с высадкой на ее поверхность. В течение 1965-1966 годов в космос уходит десять кораблей «Джемини» («Джемини-3» — «Джемини-12») с будущими астронавтами, совершившими беспримерный подвиг века. Астронавты Джеймс Ловелл и Фрэнк Борман, впервые достигшие на корабле «Apollo-8» района Луны и совершившие ее облет, летали в космос на кораблях «Джемини-7» и «Джемини-12», причем Джеймс Ловелл — дважды. Астронавты Джон Янг, Юджин Сернан и Томас Стаффорд, впервые вышедшие на корабле «Apollo-10» на окололунную орбиту и спустившиеся до высоты около 12 км к ее поверхности, совершили по два полета на тех же кораблях «Джемини». И, наконец, отважная тройка — экипаж легендарного «Apollo-11», совершившего посадку на лунную поверхность в составе Нила Армстронга, Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза также летали на «Джемини». В общем, из двенадцати астронавтов, ступивших на поверхность нашей космической соседки, шесть человек прошли подготовку на кораблях «Джемини», а два астронавта Джон Янг и Юджин Сернан совершили по два полета на кораблях «Apollo». Все это говорит о тщательной подготовке и фундаментальности проведения экспедиций на поверхность Луны. Мы с восхищением воспринимали довольно скудную информацию о ходе выполнения программы «Apollo», надеясь, что случится чудо и первым ступит на поверхность Луны наш соотечественник. В.Н.Челомей пытался совершить это чудо, и нам довелось участвовать в разработке проектных материалов по теме УР-700-ЛК-700 в качестве разработчиков системы управления тяжелой ракеты-носителя УР-700, разгонного блока и корабля ЛК-700. Легко представить, с каким энтузиазмом мы взялись за эту работу и вели ее более трех лет, с мая 1965 года по апрель 1969 года, понимая, как безвозвратно потеряно время и как бесхозяйственно организована работа. Уже после первого полета к Луне «Apollo-8» (декабрь 1968 года) стало ясно, что мы работали впустую, хотя и до этого мы понимали, что разработка двух лунных программ в СССР заранее обречена на провал. Окончательно остатки наших надежд рухнули вместе с взрывом королевской Н1-Л3 в феврале 1969 года, а триумф «Apollo-11» 16-24 июля этого же года поставил последнюю точку. Горечь нашей неудачи смешивалась с восхищением подвигом американцев. Как никто другой мы понимали, каких усилий это стоило тем, кто выполнял эту программу и нес ответственность за жизнь людей, посылаемых в космические дали. Что пережили создатели корабля в те 8 суток и 3 часа, в течение которых длился полет «Apollo-11»?!
Так называемый групповой полет кораблей «Союз-6», «Союз-7», «Союз-8», последовавший вскоре за полетом «Apollo-11» (11-13 октября), вызвал только чувство недоумения и досады тем, как бездарно мы потеряли первенство в освоении космоса. Чисто административно-чиновное закрытие темы Н-1, последовавшее в 1974 году после закрытия лунной программы, по крайней мере, на 10-12 лет задержали создание в СССР ракеты, способной выводить на орбиту грузы до 100 тонн и более. По мнению специалистов ОКБ-1, участвовавших в создании Н1, ракета, несмотря на аварийные четыре первых пуска, (что в ракетной технике не является чем-то необычным), могла быть доведена до кондиции, что дало бы прочный фундамент для дальнейшего развития космонавтики в нашей стране, включая создание многоразовой транспортной системы типа «Шаттл». Закрытие нашей лунной программы косвенно отрицательно сказалось и на развитии космонавтики в США — исчез дух соревновательности, а попытка партнерства в космосе — «Apollo-Союз» имела жалкий вид в глазах специалистов и продолжена не была. В силу этого, американская программа, известная как «Postapollo», и предусматривавшая дальнейшее освоение Луны, также не была осуществлена. Понятно недоумение второго человека, ступившего на поверхность Луны Э. Олдрина: «Исследователи будущего будут изумлены тем, что столь грандиозная программа была навсегда забыта и закрыта!» Мы можем только добавить, что это была блестяще выполненная программа, продолжение которой явилось бы значительным шагом в освоении околоземного пространства и использования его энергетических ресурсов. Что же ищет человек в бескрайних просторах космоса? В чем прелесть полетов в небо?! Неужели действительно — в падении. Нет, ответ ясен и прост — неугасимая экспансия человечества сначала в пределах планеты и затем вне ее. Сомнений в целесообразности использования ближайшего околоземного пространства ни у кого уже нет. Но, что может дать нам чуждый мир Луны и планет, мир без жизни, без воздуха, без воды, с перепадами температуры в десятки и сотни градусов?
Существуют десятки реальных, полуфантастических и фантастических проектов использования свободного космического пространства, Луны и ближайших планет Солнечной системы, создания баз, поселений и изменения условий на них. Специфические условия космоса могут быть использованы в первую очередь для энергетики, расширения ресурсной базы и получения материалов с экстремальными свойствами. К необходимости возврата к программам интенсивного проникновения в космос призывают западные футурологи (Форрестер, Шульц, Мартин), предсказывая упадок технологической эры в развитии человеческого общества вследствие естественного истощения ресурсов Земли, роста народонаселения, загрязнения среды и падения в глобальном масштабе среднего уровня жизни. Выход из этого положения — освоение космического пространства. Все другие меры только затягивают переход к постиндустриальному, аграрному образу жизни, т.е. наступление всеобщего социально-экономического коллапса. Доктор Т. Мартин в 1989 году в докладе на заседании Британского межпланетного общества четко сформулировал альтернативу в будущем развитии человечества: «...space age, or a stone age.» (»...космический или каменный век»).
|
Отмечая в июле 1989 года двадцатилетие высадки американских астронавтов на лунную поверхность, Президент США Д. Буш провозгласил возврат к лунной программе и к ее дальнейшему расширению: «Мы должны совершить снова возврат к лунной программе пилотируемого исследования Солнечной системы — к постоянным исследованиям в космосе». (SF XI.8z.T.9). Буш рекомендовал Национальному Космическому Совету создать план пилотируемых миссий на Луну и Марс. Будущее покажет, не будет ли снова, как и в 1969 году, отдано предпочтение земным делам, типа «стратегической оборонной инициативы», тем более, что сейчас для США может оказаться более выгодной экспансия в страны Восточной Европы и Северной Азии.
Если в области исследования космического пространства в шестидесятые годы Советский Союз явно потерял ведущее положение, то в создании боевых ракетных комплексов, в оснащении армии стратегическим вооружением Янгель со своей корпорацией смежных организаций, а к концу шестидесятых годов и Челомей, прочно удерживали лидирующее положение. Летные испытания ракеты 8К67, начатые ее «коротким» вариантом, шли успешно, т.е. конструкция ракеты и ее систем обеспечивали выполнение основных требований, а неизбежные при летных испытаниях аварии, как правило, были следствием отдельных упущений или недоработок. Два пуска оказались аварийными из-за ошибки в расчете на прочность обтекателей, прикрывающих рулевые приводы I ступени.
На ракете, в качестве рулей, использовались 4 «малых» реактивных двигателя, работающих на тех же компонентах, что и основные маршевые двигатели, расположенные в районе нижнего торца ракеты симметрично в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Двигатели слегка выступали за габариты ракеты и были защищены от набегающего потока при полете обтекателями, под которыми непосредственно располагались рулевые машинки. Первая ракета успешно стартовала, но при прохождении максимума скоростного напора, где-то в районе семидесятой секунды полета, потеряла устойчивость. Анализ телеметрии показал, что одна рулевая машинка была обесточена. Естественно — вина ложилась на систему управления и, как всегда в таких случаях, были рассмотрены все возможные причины и приняты меры, предотвращающие повторение возможных неисправностей. Однако при следующем пуске авария повторилась. Тогда руководитель пусков, в то время майор А.С.Матренин, собрал всех, и штатских, и военных, и широким фронтом, цепью, как в наступлении, провел по обширному району, где падали остатки развалившейся ракеты. Была найдена злосчастная рулевая машинка, подводящие питание провода оказались отрезаны как ножом. Догадаться далее было не трудно. Под напором набегающего потока верхняя часть обтекателя срезалась и, в свою очередь, перерезала провода. При дальнейшем анализе было установлено, что имела место ошибка в расчете прочности обтекателя. Редкий случай — виновные во главе с начальником прочнистов ОКБ-586 были наказаны.
Совсем необычный случай был с ракетой, если мне память не изменяет, за номером семь. Холодным ноябрьским утром после всех обычных работ и переживаний В.Г.Сергеев и я наблюдали за пуском. Объявлены поочередно все готовности и, наконец, старт. Как и положено, мы сначала четко видим запуск рулевых двигателей и вот должны запуститься и маршевые. Но, что это? Время идет, ракета стоит на пусковом столе, ясно видно как отклонились тангажные камеры, т.е. как бы ракета уже ложится на курс, но маршевые двигатели бездействуют, наконец, на 73 секунде после запуска ракета взрывается. Громадное облако пламени и дыма подхватывает сильный ветер и уносит его прочь, к счастью, для стартовой позиции. Обстановка прояснится после проявления и анализа пленок телеметрии. Если на телеметрии зафиксирована команда «контакт подъема», то система управления и мы вместе с ней не виноваты, а если эта команда отсутствует, то это значит, что наземная аппаратура по какой-то причине не выдала команду на запуск или бортовая аппаратура ее не исполнила. И в том, и в другом случае виновата система управления. И вот мы, с Владимиром Григорьевичем, сидим в кабинете Янгеля. Галась Михаил Иванович ходит по кабинету и априори ругает нашу фирму и Сергеева: «Опять у тебя ... простой случай ... и вы не умеете ...» и т.д. и т.п. в том же духе и с применением слов усиления. Михаил Кузьмич, сидевший неподвижно за столом на своем месте, наконец, не выдерживает и резко останавливает Михаила Ивановича, который срывает злость на заглянувшем в кабинет конструкторе. Наконец, сообщают, что пленки проявлены и разостланы на специальных смотровых столах. Я бегу, опережая всех, и вот уже на соответствующей дорожке ясно вижу метку «контакта подъема», т.е. контакт сработал на не стартовавшей ракете. Как и положено, сразу же наземная аппаратура была отключена от борта. Я возвращаюсь в кабинет Янгеля. Туда, в это же время, вносят мокрый от компонентов, доставленный со старта агрегат, носящий название «упор контакта подъема». Это довольно простое механическое устройство, крепящееся на пусковом столе, и с помощью подвижных элементов и зажимов на них поджимается контакт подъема. Несмотря на то, что операцию установки этого устройства осуществляют и контролируют двое штатских и двое военных специалистов, упор был правильно установлен, но зажимы, как следует, не зажаты, и вибрация от запустившихся рулевых двигателей привела к тому, что упор отошел, и контакт подъема подал сигнал, соответствующий старту ракеты. Как разбирал Михаил Кузьмич этот случай, мы с Владимиром Григорьевичем не стали слушать.
Но не всегда однозначно удавалось определить причину аварии. В таком случае намечалось несколько возможных причин и по каждой из них принимались меры. Часто телеметрия не давала нужной информации, а на месте падения ракеты обычно лежала куча металлолома, по которой невозможно было установить причину аварии. Одна из ракет потеряла устойчивость уже при полете второй ступени и упала в нескольких десятках километров от Омска. К месту падения вылетела комиссия с заданием по обломкам попытаться установить причину аварии. Вот, что рассказал В.К.Копыл, участник этой миссии, главный разработчик прибора усилитель-преобразователь (УП), попавшего под подозрение. Правда, в его рассказе просматривается некоторая избирательность его памяти. Падение ракеты вблизи крупного города вызвало бурную активизацию деятельности местного КГБ, подогреваемую, по-видимому, из центра. Прежде всего, в области была сформирована и распространена версия события: потерпел аварию автоматически управляемый самолет, жертв нет. Затем силами КГБ и местных военных частей «бренные останки» ракеты были собраны в одно место и поставлена охрана.
Комиссию встретил высокопоставленный сотрудник КГБ в чине полковника, оказавшийся чрезвычайно гостеприимным. Первым делом комиссия в полном составе была привезена на какую-то загородную дачу, где состоялось обильное возлияние с закуской из жареных гусей. Затем комиссию посадили в две машины — ГАЗ и РАФ. Копыл попал в машину ГАЗ, которую взялся вести полковник, отстранив солдата-водителя за слишком «медленную» езду, на что солдат среагировал словами: «От старшины попадет и Вам, и мне!» Тем не менее, полковник повел машину, и когда, на довольно узкой дороге, впереди показалась машина, выехавшая навстречу и ведомая старшиной, полковник злорадно заявил: «Сейчас посмотрим, какие нервы у твоего старшины!?» Нажав на акселератор, он вывел машину на встречную полосу движения. У пассажиров хмель как рукой сняло, но полковник с азартом гнал машину и только в последний момент, когда столкновение казалось неизбежным, перевел машину на свою полосу движения. Окажись у старшины нервы послабее, и если бы он плохо знал своего начальника и попытался уступить ему дорогу, столкновение было бы неизбежным. Машины остановились. Старшина обматерил полковника — своего начальника, затем солдата-водителя — своего подчиненного, соблюдая субординацию только с местоимениями «Вы» и «ты». Инцидент был полностью исчерпан тем, что тут же в посадке был расстелен брезент, появились опять в изобилии жареные гуси и все остальное.
|