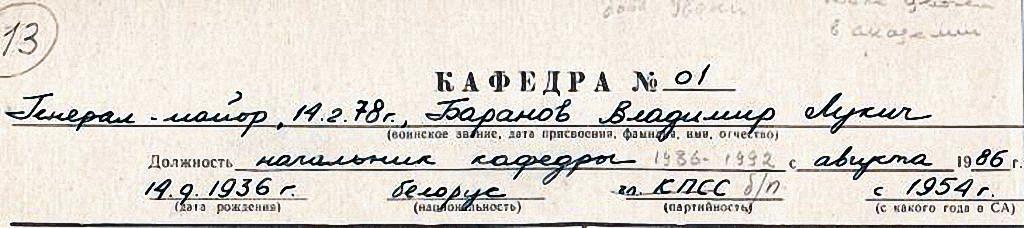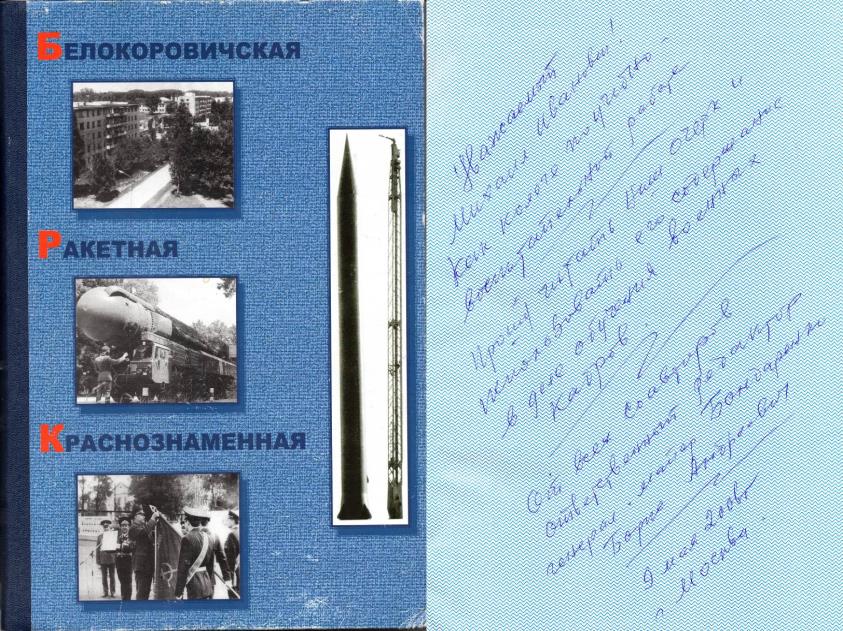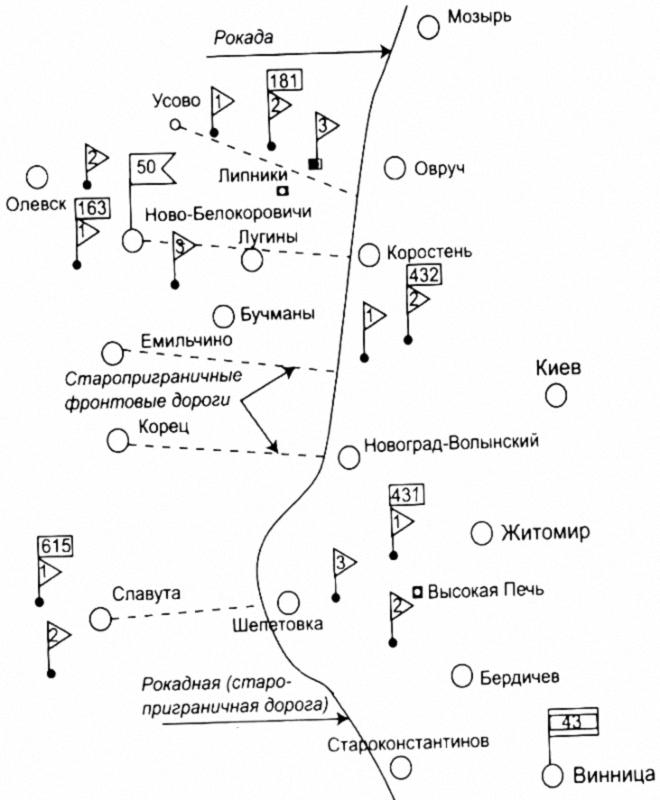|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
имени ПЕТРА ВЕЛИКОГО М.И. ПАВЛУШЕНКО
Балашиха 2023 © Павлушенко М., 2023. Наш адрес: ruzhany@narod.ru |
|
Глава 1 1.1. Первые армейские годы В.Л. Баранова (1954 – 1972) Владимир Лукич Баранов родился 14 сентября 1936 года в городе Орша Витебской области. Уже будучи ветераном, он всегда в разговорах с коллегами по-настоящему гордился своей принадлежностью к героической белорусской земле, в анкетах в графе национальность писал – белорус. Из воспоминаний детства Владимир Лукич рассказывал, что ему больше всего запомнился июнь 1941 года, когда его мама, как и тысячи других беженцев, с двумя маленькими детьми на руках уходила от Бреста на восток страны. Отец, кадровый пограничник, с первых часов войны сражался с фашистами. Как известно, по плану «Барбаросса» командование немецко-фашистских войск на прохождение линии советских пограничных застав отводило всего 15 – 30 минут. Но именно на советской границе немецко-фашистская машина «блицкрига» и дала первый сбой. Большинство пограничных застав держались часами и днями, а Брестская крепость по официальным данным в полном окружении держалась 32 дня, хотя отмечены отдельные очаги сопротивления до трех месяцев.
«Помню, – рассказывал Владимир Лукич, – после прибытия на квартиру вестового, обнял нас отец и побежал на «полуторку», которая увезла его на заставу. Больше отца мы не видели. Под бомбежкой мы с мамой выбежали из дома в чем были и уходили на восток. Навстречу нам шли и шли колонны красноармейцев на бой с врагом. Я все оглядывался на наш дом, – там остались маленькие цыплята, смотрел: не бегут ли они за нами». После войны Барановы в Белоруссию уже не вернулись, остались жить в Запорожье. Из Запорожья В.Л. Баранов поступил в 1954 году в Рижское Краснознаменное высшее инженерно-авиационное военное училище имени Ленинского Комсомола. Вспоминая годы обучения в училище, Владимир Лукич рассказывал: «В училище почти все преподаватели были участниками Великой Отечественной войны. Они давали нам надежные знания, которые пригодились бы нам на войне. Но это и обязывало. Если мой преподаватель по огневой подготовке с осколком в глазе стрелял на «отлично», то как я, курсант военного училища, мог после его обучения стрелять на «троечку?» «В Риге я, – продолжал свой рассказ Владимир Лукич, – прикоснулся к настоящей культуре. Об этом заботились наши воспитатели. Как только появился фильм «Карнавальная ночь», то первыми, кто в Риге увидел этот фильм, были курсанты нашего училища. Перед массовым показом картины рижанам, режиссер хотел посмотреть нашу реакцию на фильм. Картину представлял нам сам Эльдар Рязанов и несколько актеров, занятых в фильме. Среди них была и молоденькая Людмила Гурченко. Ну, конечно же, мы все массово в нее влюбились. В Прибалтике была другая жизнь, чем в разрушенном фашистами Запорожье. Как раз тогда же появился и фильм о светлой любви двух молодых людей – «Весна на Заречной улице». Он снимался в Запорожье. Я увидел мои улочки, завод, который стоял рядом с домом. Все в том фильме было так знакомо и узнаваемо. В увольнение я иногда ездил на электричке в Юрмалу покупаться в Балтийском море. До сих пор помню колоритный запах просмоленных шпал и морского бриза». Годы детства, проведенные в Запорожье, навсегда остались в памяти Владимира Лукича. Мой товарищ по совместной работе в ВНГ-1 подполковник Бельбас Станислав Михайлович рассказывал: «На первом строевом смотре, который Владимир Лукич проводил в должности начальника кафедры, увидел в моем удостоверении личности место рождения – город Запорожье. Может, он не поверил, что я оттуда родом, или пошутил, но задал проверочный вопрос: кто спроектировал мосты через Хортицу? Я, конечно же, и ответил, не задумываясь: «Инженер Преображенский». Я не мог этого не знать: я же все свое детство проводил на Хортице, исходил пешком и изъездил на велосипеде весь этот знаменитый остров вдоль и поперек. Владимир Лукич остался моим ответом доволен, но и я понял, что город Запорожье ему не чужой». Училище Владимир Лукич закончил в 1959 году с отличием. Молодой лейтенант, который был влюблен в небо, получил назначение начальником отделения проверки технической батареи 310 инженерного полка 43 Воздушной армии Дальней авиации. Служил лейтенант Баранов, как он говорил, «верой и правдой Государю и Державе». Те, кто застал свои лейтенантские годы еще в советское время, понимают, что тогда в ряды Коммунистической партии «за красивые глаза» лейтенантов не принимали. Надо было заслужить такую честь. Вот и инженер-лейтенант Баранов в 1959 году был принят в ряды КПСС. 01 сентября 1960 года 43-я воздушная армия Дальней авиации была переформирована в 43-ю Краснознаменную ракетную армию (РА). Уже в декабре того же года Владимир Лукич в воинском звании старший инженер-лейтенант был назначен на должность командира 3-й стартовой батареи 178-го ракетного полка (в/ч 23467, позывной «Эфир»), вошедшего в состав РВСН. На основании директивы Министра обороны СССР на базе 46-й ракетной бригады Резерва Верховного Главного командования (штаб г. Прохладный Кабардино-Балкарской АССР) в апреле 1961 года была сформирована 35-я Краснознаменная орденов Кутузова и Александра Невского ракетная дивизия (рд). Ее первым командиром стал Шевцов Владимир Никодимович. В состав этой дивизии вошел и 178-й гвардейский ракетный полк (рп). Материалы военно-исторических исследований в РВСН1, мои записи в дневнике тезисов разговоров с Владимиром Лукичом, а также мемуары ветеранов РВСН позволяют реконструировать условия и атмосферу жизни и службы воинов 178 рп – одних из первопроходцев Ракетных войск. Вдумайтесь, с тех пор прошло больше 60 лет. Целая человеческая жизнь! Уж поистине, рукописи не горят. Так, мой командарм 43 РА генерал-лейтенант Валерий Васильевич Кирилин, с которым я очень сдружился в ходе совместной научной работы, когда он после увольнения из рядов ВС РФ работал в академии старшим научным сотрудником, писал: «Личный состав полка был «звездным», в одно время со мной в нем служили будущие генералы Ракетных войск Баранов В.Л., Гладун В.Г., Егоров В.Ф., Ласточкин Н.В., Фурса Е.Г., я их хорошо знал и общался с ним»2. 178-й гвардейский ракетный полк был сформирован на базе расформированной танковой дивизии и с сентября 1959 года до формирования 35-й рд подчинялся, как отдельный полк, непосредственно управлению 43-й Воздушной армии Дальней авиации (штаб г. Винница) под легендой «школа младших авиационных специалистов». Офицерам тогда так и говорили, что РВСН формируют в составе ВВС. По штату № 8/913, утвержденному 10 апреля 1959 г., полк состоял из 188 офицеров, 149 сержантов, 763 солдат, шести гражданских рабочих и служащих. В полку было три ракетных дивизиона (рдн) и дивизион транспортировки и заправки компонентами ракетного топлива. В 1-м и во 2-м рдн на вооружении стояло по четыре наземных пусковых установки с ракетами Р-12Н, в 3 рдн – четыре шахтных групповых пусковых установок с установленными в них ракетами Р-12У. Командир 1-го рдн в описываемый период Авдеев Степан Николаевич вспоминал период формирования 178-го рп: «Напротив Карцинской школы было общежитие полка. Там мы оставили свои чемоданы и пошли представляться командиру полка Запорожцу Михаилу Ивановичу. Разместили нас в том самом общежитии, где жили офицеры с семьями и солдаты. Это было двухэтажное здание, где «офицерские квартиры» были разделены между собой обычными одеялами, висящими на веревках… Осенью 1959 года в полк и, разумеется, в 1-й дивизион начали прибывать выпускники военных училищ – молодые лейтенанты. Среди них Смирнов К., Кирилин В., Клейнос Е., Жуков Ю., Шагов Б., Сапегин И., Омельянчик, Русских Л., Соколов А., Челышев Б., Баранов В., Рюмшин Н., Кончаев В., Саакян Э., Лазуткин В., Таланов А., Силин Г., Ищенко А., Аверкин А., Дубинский Э., Жерибор А., Толстой В.»3. Генерал-лейтенант Кирилин В.В. также писал про этот период жизни полка: «Полк формировался в нескольких километрах от города, в поселке Шалхи, на базе расформированной танковой дивизии… Соцкультбыт был спартанский – всех холостяков разместили в казарме (общежития не было), причем в двух ярусном размещении кроватей, чего не было в училище, снимать жилье в городе по режиму секретности не разрешалось, да и часть семейных офицеров размещалась в казармах в ленинских комнатах на две семьи, разгороженных простынями. Военторговская столовая находилась на территории части, но по воскресеньям не работала. Автобусное сообщение было от города до соседнего населенного пункта Карца, но рейсы были крайне редкими, а в вечернее время их практически не было, и основной способ добраться до Шалхов был на попутных машинах или пешком. Мы были молоды и эти обстоятельства нас не угнетали, тем более, что через несколько месяцев нам разрешили снимать жилье в городе. Состав формируемого полка был довольно интересным. Офицеры в большинстве своем молодые лейтенанты выпускники средних авиационных училищ, на должности от капитанов и выше пришли офицеры из расформированных авиационных полков, дослуживать до пенсии. С десяток, не больше, было лейтенантов-инженеров с высшим инженерным образованием. Я попал в техническую батарею, которой командовал инженер-лейтенант Аверкин, отделением командовал инженер-лейтенант Баранов В.Л. (впоследствии генерал-майор), первым дивизионом командовал списанный с летной работы майор Авдеев Степан Николаевич. А солдатами полк укомплектовывался тоже очень интересно. В нашем отделении из 24 солдат и сержантов срочной службы 18 человек имели сержантские звания. Старшиной батареи был старшина сверхсрочной службы Харитонов, прекрасный человек и воспитатель, изредка уходил в запой, но мы его очень ценили, так как опыта работы с людьми ни у кого из нас не было… Одновременно со службой мы очень много занимались спортом. В основном игровыми видами: волейбол, ручной мяч, футбол, баскетбол и легкая атлетика. Полк был, в основном, по своем составу, молодым, и фанаты в каждом виде спорта были. Я, например, серьезно увлекался волейболом. Наша команда играла на первенстве города Орджоникидзе и первенстве гарнизона. Соперники были достаточно сильными. В городе было несколько высших учебных заведений и два военных училища. Выступали мы и на первенстве республики, и на первенстве округа, зона проводилась в городе Грозном, выступали на первенство Ракетных войск»4. В статье, посвященной 50-летию РВСН, В.Л. Баранов также писал про период становления 178-го рп: «В военном городке бывшего танкового полка нас принял начальник штаба полка подполковник Цебоев Ибрагим Беккерович, который довел до нас обстановку и провел необходимый инструктаж: полк только формируется, квартир нет, нужно искать частную; легенда прикрытия – школа младших авиационных специалистов, необходимую технику скоро получим. Полка, как такового, еще не было. Нам предстояло его создать, укомплектовать, построить стартовые и технические позиции, получить и изучить технику, научится грамотно ее эксплуатировать, сдать зачеты, сделать практический пуск учебно-боевой ракеты на полигоне и получить допуск к несению боевого дежурства. И все это нужно было сделать в кратчайшие сроки… Формирование полка продолжалось. Ежедневно прибывал личный состав и техника. Офицеры, в основном, в летной форме. Те, кто прибывал в общевойсковой форме, с удовольствием (возможно, мне так показалось) переодевались в летную. Прибыл и командир полка – подполковник Запорожец Михаил Иванович, широкой души человек, фронтовик, не придиравшийся по мелочам, доверявший офицерам и воспитывавший в них самостоятельность и чувство ответственности за порученное дело. Командир мог снять свою летную куртку и отдать ее офицеру, уходящему в ночной рейс и не успевшему получить свою по каким-либо причинам. Заместителем командира полка был назначен капитан Гладун Владимир Григорьевич, чрезвычайно тактичный и уважительный человек, ни разу не повысивший голос на подчиненного. У меня сложилось впечатление, что минимум половину офицеров полка Владимир Григорьевич знал по имени и отчеству»5. Ветераны Военной академии РВСН имени Петра Великого, в том числе и я, еще помнят генерал-майора в отставке Гладун Владимира Григорьевича, который работал на кафедре № 2 (автоматизированные системы управления войсками и связи) доцентом. Так вот, я неоднократно видел, как Владимир Лукич бережно и уважительно общался с Владимиром Григорьевичем, обращался к нему «товарищ командир». Зачастую они и обедали вместе в кабинете Владимира Лукича (иногда, и я скрашивал их компанию). Их молодость была удивительным временем первопроходцев РВСН. Да и сами эти люди были под стать своему Времени, – смелые, сильные, волевые, компетентные, дисциплинированные, решительные, справедливые, выдержанные и настойчивые… Я, как и многие сотрудники академии, тому свидетели. Гладун Владимир Григорьевич вспоминал про этот период становления 178-го ракетного полка так: «…К концу 1959 г. полк был в основном сформирован… Я попросил у начальника штаба сопровождающего офицера, знающего позиционный район полка и объехал с ним все строительные площадки. Начальники строительных участков познакомили меня с ходом строительства и акцентировали мое внимание на имеющих место отставаниях от графика. Причиной тому являлась плохая (почти непроходимая) дорога… Отсутствие объездных путей привело нас к необходимости поиска таковых. Поэтому командир полка поставил мне задачу создать рекогносцировочную группу и попытаться найти хотя бы лесную дорогу между 1-м и 3-м рдн. К сожалению такую дорогу нам найти не удалось… Летом 1960 г. полк приступил к освоению изделия 8Ж38. Занятия проводились на учебной стартовой позиции и только в ночное время с соблюдением всех мер скрытости… Первые комплексные занятия в моей памяти остались как жалкое, плохо отрепетированное театрализованное зрелище. Учебная стартовая позиция занимала небольшое пространство, агрегаты размещались скученно, внутри площадочная связь работала плохо, в стартовой батарее было много народа, пуск осуществлялся с бронемашины, слаженность боевого расчета была недостаточно и т.п. Однако качество занятий по мере приобретения опыта улучшалось. Этому способствовало и то, что было больше уделено внимания индивидуальной подготовке номеров расчетов, проведению тренажей, предшествующих комплексному занятию»6. Валерий Васильевич Кирилин также оставил свои воспоминания про этот период жизни 178-го рп: «…Осенью [1960 г.] в полк прибыл комплект ракетного комплекса [Р-2 с ракетой] 8Ж38 и начались практические занятия, которые проходили в лесополосе, прямо на территории полка. Занятия проходили в ночное время, комплекс значительно отличался от комплекса 8К63, на котором нам предстояло дежурить. Но кое-какие практические навыки он позволял нарабатывать. Летом I960 года этот комплекс использовался в операции «Туман». На территории Дагестана подвижная группа, которую возглавлял командир 1-ой стартовой батареи майор Кудряшов, в заранее определенных местах устанавливали на пусковой стол ракету 8Ж38 и проводили прожиг двигателя ракеты, то есть запускалась, но не на полную мощность, с помощью жидкостного зажигательного устройства, заправленного спиртом (11 литров) двигательная установка, в качестве окислителя использовался жидкий кислород. Эффект от этих прожигов был потрясающий, да и спирта для обслуживания техники было больше, чем достаточно. Для создания учебно-материальной базы прибыли несколько ракет 8А11, на соплах двигателей были замечены клейма заводов изготовителей Германии»7. Новому для всех ракетному делу учились одновременно и офицеры, и сверхсрочники, и военнослужащие срочной службы. Днем изучали эксплуатационно-техническую документацию, боевой состав ракетного комплекса и индивидуальные карточки работы номеров расчетов. Практические занятия проводились только в ночное время с соблюдением мер скрытности на учебной стартовой позиции, оборудованной в технической зоне 47-го военного городка (пос. Спутник). Затем военнослужащие сдавали зачеты на допуск к самостоятельной работе. Для приема зачетов в дивизии из лучших специалистов была создана инструкторская группа. После приема зачетов «местной» инструкторской группой в 35-ю ракетную дивизию прибыла инструкторско-инспекторская группа из центрального аппарата РВСН. О ее создании и результатах работы рассказывает старший преподаватель кафедры № 33 (боевых космических средств) кандидат технических наук, доцент полковник Серебряков В.К., который в описываемый период проходил службу в 181-м рп (50 рд) в должности начальника 2-го (двигательного) отделения: «Начальник штаба ракетного дивизиона довел до меня распоряжение начальника ГШ ВС СССР, что я, наряду с другими офицерами 163-го и 181-го ракетных полков, включен в состав инспекции Главного штаба Ракетных войск по проверке ракетных полков, дислоцированных в районе городов Умань, Орджоникидзе и Беслан. На вопрос: «Почему именно я?! У меня вчера жена приехала!» ответ был лаконичным: «Приказы не обсуждаются». Правда, справедливости ради, замечу, как мне объяснили, что попал я в этот список будучи специалистом по двигательным установкам, прошедший аттестацию на полигоне и приказом Главкома РВСН допущен к самостоятельной работе. На совещании, руководство сформированных нештатных инструкторско-инспекторских групп по проверке специальной подготовки боевых расчетов стартовых батарей довело до нас цели, задачи, план и расписание работы. Нам была поставлена задача оценить уровень подготовки личного состава полков, вооруженных ракетным комплексом Р-2 с ракетой 8Ж38 и степень освоения ракетного комплекса 8К63 с ракетой Р-12… В середине сентября 1960 г. инспекторская группа переехала из Умани на Северный Кавказ и с 17 сентября по отработанному алгоритму, но с учетом местных особенностей, начала проверку ракетных полков в пригороде Орджоникидзе и Беслана. По результатам проверок полки получили такие же, почти слово в слово, оценки, как и полк в Умани: уровень подготовки по комплексу Р-2 – удовлетворительный, оставляющий желать лучшего, а степень освоения комплекса 8К63 – начальный, то есть, изучена материальная часть по «синьке» с конструкторской документации. Вернувшись из командировки, узнал ворох новостей: 80-я инженерная бригада РВГК переименована в 80-ю ракетную бригаду 43-й ракетной армии; дивизионы двухбатарейного состава разворачиваются в четырехбатарейные; офицеры, несущие боевое дежурство, обеспечиваются питанием и спецодеждой по нормам технического состава авиационных частей (комбинезонами, меховыми куртками и штанами, валенками-чесанками с галошами). Директивой Главного штаба РВСН предписано из штатного состава батарей укомплектовать два расчета, способных посменно нести боевое дежурство и самостоятельно выполнять поставленные задачи; в отделениях и расчетах организовать подготовку по освоению смежных специальностей»8. Для обеспечения легенды прикрытия 178-го ракетного полка (школа младших авиационных специалистов) перегнали самолеты Ту-4 и МиГ-15бис. Вот как этот эпизод описал В.Г. Гладун: «…К нам летом [1960 г.] из г. Полтавы перегнали самолеты Ту-4 и МиГ-15 бис (УТИ МИГ-15бис). Садились они на аэродроме близ г. Беслан, а в полк доставлялись в разобранном виде. Задача была не из легких. Для них была построена стоянка, выделена группа специалистов, которая периодически проводила на них работы, в том числе и связанные с запуском двигателей, имитируя тем самым принадлежность части к ВВС. Легенда эта продержалась недолго, но зато полк впоследствии продолжительное время выполнял план по сдаче государству цветного металлолома»9. Бывший военный летчик 1 класса командир 1-го рдн 178-го рп майор Авдеев С.Н. так писал об этом: «…И тут пришла команда о приеме для обеспечения легенды прикрытия полка самолетов Ту-4 и МиГ-15бис. Кто-то даже пошутил, предложив мне посадить самолет на территории полка, чтобы не мучиться и не разбирать его, перевозить в часть, а потом собирать. Для них была построена стоянка, выделена группа специалистов, которая периодически проводила на них работы, связанные с запуском двигателей. А МиГ мы потом несколько раз возили по дорогам республики. Так обеспечивалась легенда прикрытия о принадлежности полка к Военно-воздушным силам»10. Когда в полку установили самолеты, то старшему инженер-лейтенанту Баранову В.Л. добавилось работы. Владимир Лукич рассказывал: «Прибыли два самолета. По вечерам стали проводить прогонки двигателей (ШМАС все-таки!). Мне, как выпускнику авиационного училища, периодически приходилось залезать в кабину и запускать двигатели. Дело в том, что из Турции на территорию СССР залетали натовские самолеты-разведчики. Включением двигателей на Ту-4 и МиГ-15бис имитировалась принадлежность 178-го гвардейского ракетного полка к Военно-воздушным силам. Как мне хотелось поддать «газку» и потянуть штурвал на себя! Все ходили, морщились от шума и запаха выхлопных газов, а я дышал полной грудью родную атмосферу». Осенью 1960 года 178-й полк получил задачу по переподготовке офицерского состава на боевой ракетный комплекс 8К63, вооруженный ракетой Р-12. В это же время в расположение полка стали поступать элементы боевого стартового комплекса с наземными и шахтными пусковыми установками. Соответственно, полк был переведен на новый штат № 6/84, утвержденный 05 апреля 1961 года (286 офицеров, 307 сержантов, 1204 солдат, 29 рабочих и служащих). Личный состав 178-го ракетного полка участвовал в интенсивных строительно-монтажных работах по развертыванию боевых стартовых позиций наземных стартов с ракетой Р-12Н (1-й и 2-й рдн) и шахтных комплексов «Двина» с ракетой Р-12У (3-й рдн). Владимир Григорьевич Гладун писал: «… Полк получил задачу подготовится к переподготовке офицерского состава на РК, вооруженный изделием 8К63. Для проведения занятий в Тарском ущелье силами полка была построена учебная стартовая позиция, которую условно назвали «Пионерский лагерь труда и отдыха». Позицию, которую мы построили в 47-м военном городке под ракетный комплекс (РК) с изделием 8Ж38 использовать для проведения занятий на РК с изделием 8К63 не представлялось возможным, так как его геометрические характеристики не обеспечивали скрытое проведение занятий». При постройке учебной стартовой позиции возник смешной казус с командиром соседней части, не входящей в состав РВСН. Его описал С.Н. Авдеев: «В ходе проведения занятий по переподготовке офицерского состава нашего полка возникла необходимость в тренажере где можно было бы проводить подъем и прожиг изделий. Нашли место в Тарском ущелье. Начали завозить туда булыжник. Из каждого подразделения выделяли людей для строительства. Для соблюдения секретности придумали легенду про пионерский лагерь. В это время возник конфликт с полковником Герасевым Николаем Андреевичем. Он выразил неудовлетворение тем, что от них никого не выделяют на строительство лагеря и в последующем у них не будет мест в пионерлагере для детей офицеров его подразделений. Я тогда ему сказал: «Давай, выделяй 10 человек». Он начал выделять каждый день по 10 человек, а потом узнал, что это за пионерлагерь. И тут он начал возмущаться, что его обманули»11. Как строилась учебная позиция, оставил свои воспоминания генерал-лейтенант Кирилин В.В.: «Пока шло строительство, была выбрана учебно-боевая позиция в одной из лощин предгорья за населенным пунктом Карца. Там мы впервые развернули палатку 8Ю12, где хранилась ракета и мы проводили горизонтальные испытания, прежде чем она выдавалась стартовой батареи, проводившей очередное занятие в ночных условиях. Освещение позиции не было, ограждение – колючая проволока в четыре нити. Электричество во время занятий вырабатывали подвижные электростанции ЭСД-20 и ЭСД-50. В сентябре 1960 года старший инженер-лейтенант Баранов был назначен командиром 3-ей стартовой батареи, а я вместо него начальником отделения проверки технической батареи, так началась моя офицерская карьера. С первым развертыванием мы провозились значительное время. Ни о каких нормативах речи не могло быть… Довольно сложно было нести караульную службу, особенно ночью, когда не было занятий... В горах Чечено-Ингушетии, на высоте от 800 до 1000 метров над уровнем моря шло строительство позиционного района полка. В сентябре ознакомиться с ходом строительства приехал командующий Северо-Кавказского военного округа генерал-полковник И. Плиев, сопровождающих он с собой не взял, а сам был в кожаной куртке без погон. На въезде на объект было оборудовано КПП, имеющее связь с караульным помещением, которое находилось на расстоянии около 2-х км. Дежурного коменданта техника-лейтенанта Русских в караульном помещении не оказалось. А часовой на КПП уперся, на объект Плиева не пропускал, и уехать не разрешил, пока через несколько часов не появился Русских. Объехав объект, Плиев успокоился, поблагодарил солдата и вручил ему часы, которые снял со своей руки. Территория нашего дивизиона была огромна. Жилой городок от боевой стартовой позиции (БСП) находился на расстоянии около 2-х километров, техническая позиция на расстоянии 3-х км, там же строился командный пункт полка, еще дальше находилась позиция сборочной бригады ртб. Природа была очень своеобразной и по-своему красивой. Весной все было белым, цвела алыча, черешня, груши, обилие черемухи, к осени все это созревало, было много орехов. Водились в большом количестве зайцы, козы, кабаны, для охотников было раздолье. С местным населением особых трений и конфликтов не было, и мы спокойно бродили в горах и группами и в одиночку… Как правило, «холостяки» перебрались жить на БСП дивизионов, прокутив очередную получку, можно было отсидеться в горах, питаясь по летной норме… Одновременно шло строительство жилья для семей офицеров. Два многоквартирных дома было построено в п. Шалхи, получали жилье офицеры и в г. Орджоникидзе. При этом произошел один казусный случай. К нам в полк в 1962 г. на должность секретаря комсомольской организации прибыл молодой старший лейтенант Елисеев, он был женат, но детей в семье не было, тем не менее, ему выделили 2-х комнатную квартиру. Это нас «заслуженных холостяков» возмутило, и мы подняли бунт «на корабле». В результате нам выделили 3-х комнатную квартиру на первом этаже в доме, где в полуподвальном помещении было устроено общежитие для холостяков. Жило в этой квартире 5 человек, ключ был один и, хоть квартира от земли располагалась довольно высоко, вместо того, чтобы сделать дубликат ключа, мы поочередно лазили при необходимости в форточку…»12. «По мере комплектования подразделений полка начиналась учеба, – вспоминал В.Л. Баранов. На переподготовку я попал с группой офицеров в действующий ракетный полк, дислоцировавшийся в Пинске (Белоруссия)13. Предстояло за три месяца (декабрь, январь и февраль) изучить основы нового оружия и получить необходимые знания и практические навыки для дальнейшего качественного исполнения функциональных обязанностей. Впереди нас ожидала служба в Ракетных войсках – дальние гарнизоны, полигоны, боевое дежурство и постоянная ответственность за боевую готовность ракетного вооружения и личного состава вверенных частей и подразделений». Авдеев С.Н. вспоминал: «Уже в конце декабря 1959 года мы были откомандированы для изучения матчасти в инженерный полк, расположенный в 30 км от г. Пинск по дороге Пинск – Минск. В составе группы был и сам командир полка Запорожец М.И. Там велось строительство учебной базы, жилья для офицеров полка, а за болотами строилась площадка для полка. Размещены мы были в деревянных домиках, а занятия по матчасти с нами проводились в местной деревенской школе. Новый 1960 год мы встречали в семье командира Пинского полка. В январе 1960 года вернулись в полк»14. После учебы в 85-м рп 1-й дивизион 178-го рп убыл на полигон Капустин Яр за ракетной техникой и на учебу. «Зимой 1961 года наш дивизион в полном составе прибыл на полигон Капустин Яр для проведения учебно-боевого пуска, – вспоминал генерал-лейтенант В.В. Кирилин15. Технология подготовки и проведения пуска заключалась в следующем: личный состав получал допуск к самостоятельной работе в ходе комплексных зачетных занятий с использованием учебной ракеты. Отделение горизонтальных испытаний, которым я командовал, получив зачет, под контролем инструкторов полигона подготавливало боевую ракету к пуску. Личный состав стартовых батарей после допуска проводил заправку и слив компонентов ракетного топлива на этой ракете, а лучшая стартовая батарея проводила потом подготовку и пуск ракеты. Лучшей батареей была третья стартовая батарея, которой командовал старший инженер-лейтенант Баранов Владимир Лукич, начальником третьего отделения был техник-лейтенант Миша Денисов. За двадцать минут до пуска ракеты отстыковывалось наполнительное соединение окислителя и после этого на привод третьей рулевой машинки устанавливался графитовый газоструйный руль. Расчет в спешке после отстыковки наполнительного соединения этот руль не установил. Ни командир батареи, ни начальник отделения, ни инструктор полигона пропуска этой операции не заметили. Пуск был проведен, головная часть точно попала в цель, только после этого Денисов обнаружил неустановленный руль и сказал об этом мне. Мы приняли решение по команде не докладывать, а руль забрать с собой для учебно-материальной базы. Система управления с возмущающими воздействиями по «рысканью» успешно справилась и с одним газоструйным рулем в плоскости первого и третьего стабилизаторов, скомпенсировала негативное воздействие «человеческого фактора»16. Кстати, В.В. Кирилин рассказывал, что когда офицеры полка приехали в Капустин Яр, то застали подготовку военнослужащих всего гарнизона к запланированному на лето 1960 года приезду Хрущева Н.С. на полигон. «Местным» было не до «полкачей». Интересно, что к приезду Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета министров СССР на полигоне собрали всю находящуюся в Советском Союзе разнотиповую ракетную технику и установили ее вдоль дороги, по которой должен был ехать Н.С. Хрущев. Среди этой техники на пусковые столы установили ракеты 8А11, 8Ж38, 8К51, 8К63 и др. «Ракеты стояли в хаотичном беспорядке, – рассказывал Валерий Васильевич, – но впечатление, этот беспорядок производил сильнейшее. Казалось, что степь ощетинилась ракетами». После прибытия личного состава из полигона, 178-й рп заступил на боевое дежурство. В.Г. Гладун вспоминал: «Первый и второй рдн базировались в районе н.п. Сурхахи (на удалении 7 км друг от друга, а третий – в районе н.п. Бамут. Боезапас ракет и головных частей был рассчитан на два пуска. Генеральным планом строительства предусматривалось, что ракеты 1-го и 2-го рдн будут хранится в сооружениях № 2, а головные части – в сооружениях № 6, расположенных на БСП своих дивизионов. Ракеты первого пуска 3-го рдн с пристыкованными к ним ГЧ будут установлены в шахты, и приведены в установленную степень боевой готовности. Головные части, предназначенные для второго пуска, будут хранится в сооружении № 6, расположенном в зоне ртб на боевой стартовой позиции 1-го рдн». Боевые стартовые позиции «наземных» дивизионов 178 рп (1-й и 2-й рдн) находились на высоте до одного километра над уровнем моря. Головной болью ракетчиков 178-го гвардейского ракетного полка были дороги, по которым двигалась ракетная техника. А если добавить к сказанному ночные условия, в которых перемещались ракетчики на позиции, гололед на горных и неприспособленных для движения крупногабаритной техники дорогах, наличие ущелий и много поворотов, то можно представить накал нервного напряжения и расхода сил солдат и офицеров полка. Ветеран полка Власов Валерий Петрович так описал маршрут от пункта постоянной дислокации до пусковых столов: «Не было ни одного ровного участка дороги. Сплошные подъемы и спуски. Это сильно затрудняло движение тяжелой техники. Особенно заправщиков. И естественно приходилось сталкиваться с трудностями при выходе дивизиона в запасной позиционный район, особенно в зимнее время. Все комплексные занятия проводились только в ночное время, так как при работе днем ракету было видно за несколько километров. Отработав до двух-трех часов ночи, в этот же день надо было прибыть на службу»17. 1-й ракетный дивизион, командиром 3-й стартовой батареи в котором был В.Л. Баранов, первым в 178-м рп в составе всех четырех пусковых установок ракет Р-12 заступил на боевое дежурство. Командир 1-го рдн майор Авдеев Степан Николаевич вспоминал: «18 апреля 1961 года наш первый дивизион встал на боевое дежурство. Как-то, не отложился у меня в памяти этот день отдельным событием. Помню, долгое время мы с объекта неделями не выезжали. Приезжали два офицера из Москвы, мы сдавали зачеты. Потом опять долго не могли выехать с объекта. Так прошли весна, лето, осень 1961 года. Помню даже в какой-то момент, жены офицеров чуть бунт не организовали…»18. «Но никто не ныл, не жаловался на трудности и усталость, – рассказывал Владимир Лукич. – Все понимали свою нужность Державе и сложность международной обстановки». 2-й рдн 178-го рп заступил на боевое дежурство 31 декабря 1961 г., 3-й рдн – в 1963 году. В 1992 г. чуть ли не впервые в стране широко отмечался юбилей проведения военно-стратегической операции «Анадырь» – передислокация из СССР и развертывание Группы советских войск на остров Куба с целью предотвращения американской военной агрессии. Главным содержанием операции «Анадырь» была доставка и приведение в боевую готовность на острове Куба стратегических ракет среднего радиуса действия Р-12 и Р-14 с ядерными боевыми зарядами. «Когда начался Карибский кризис19, мы дома и не были. Несли боевое дежурство в готовности к немедленному пуску ракет по позициям американских ядерных ракет, развернутых в Турции, рассказывал В.Л. Баранов. – Готовую к применению технику маскировали, так как со стороны Турции в нашем воздушном пространстве частенько появлялись американские самолеты-разведчики. По полку тогда пошел слух, что набирают офицеров-ракетчиков на Кубу. Много офицеров-ракетчиков написали рапорта с просьбой отправить их на Остров Свободы. Написал такой рапорт и я. Эти рапорта начальник отделения кадров собрал у нас, положил их в несгораемый сейф, больше эти рапорта мы и не видели», – улыбаясь, закончил свой рассказ Владимир Лукич. Валерий Васильевич Кирилин вспоминал про тревожные дни Ракетного кризиса так: «Реально соединения РВСН впервые были переведены в повышенную боевую готовность во время Кубинского кризиса, распоряжение было передано шифром, пакеты не вскрывались, но начальник штаба нашего полка, не разобравшись, пакет вскрыл. Ограничений было много. Ракеты из хранилищ технической батареи в предстартовые хранилища не перемещались, головные части к ракетам не пристыковывались, забор компонентов ракетного топлива в подвижные емкости не проводился. Офицерский состав был собран в предстартовые городки. И в таком состоянии мы находились более месяца. Здесь уместно отметить, что после отправки частей РВСН на Кубу, когда это стало достоянием гласности, была проведена компания по набору добровольцев поехать на Кубу. Примерно 80% молодых офицеров записались в добровольцы, но никого не отправили… Мы верили в идеалы и это, на мой взгляд, было прекрасно. Когда по радио объявили о запуске и успешной посадке Юрия Гагарина, я был дежурным по дивизиону и, расстреляв целую обойму из пистолета ТТ, меня переполняло чувство гордости за страну. Оно было у всех и меня только пожурили за этот поступок… После Кубинских событий нам пришлось много поработать. Стационарный в общем-то комплекс, пытались по-настоящему сделать мобильным. В полк прислали комплекты СП-6 – это железобетонные плиты, на которых можно было устанавливать пусковой стол и опоры установщика. В районе Саманик в заболоченной пойме р. Сунжа была выбрана учебная боевая позиция, которую мы занимали несколько раз – весной и летом составом дивизии. Комаров было тьма, боролись мы с ними варварским способом – разливом солярки, ни о какой экологии мы в те времена не думали. На стационаре на БСП батареей были установлены металлические опоры, между ними натянуты тросы, к которым крепились листы зеленой полихлорвиниловой пленки. Как оказалось, впоследствии, из космоса это светилось, как демаскирующее пятно. А возни с приводами по разведению тросов, при установке ракеты на пусковой стол было предостаточно, их постоянно заедало. Дороги между БСП батареей засыпали землей и задерновали. Во время дождя заправочная техника на БСП выехать не могла. Для тягачей АТТ20 дороги становились непроходимыми. Часть грунта пришлось снять, оставив колеи для проходя техники, но все дороги замаскировать не представлялось возможным. Это была не маскировка, а пустая трата сил и средств. К моменту, когда полк вошел в состав дивизии, мы многое знали и многое умели»21. Позиции 1-го рдн и 2-го рдн 178-го рп находились в сложной и сильно пересеченной горно-лесистой местности. БСП 2-го рдн размещалась на высоте 970 метров над уровнем моря, БСП 1-го рдн – несколько ниже. Много было трудностей, связанных с транспортировкой крупногабаритной ракетной техники по ущельям и неприспособленным горным дорогам в запасные позиционные районы. Это требовало много сил, большого нервного напряжения и организованности от всех участников марша. Крутые подъемы и спуски, ограниченные радиусы поворотов сильно затрудняли марш техники. С учетом требований скрытности, марши совершались только в темное время суток, поэтому становились чрезвычайно опасными. Положение усугублялось тем, что в ночное время, даже в летнее время, дороги часто покрывались гололедом. К сожалению, неоднократно случались аварии и поломки техники ракетного комплекса. Кстати, на одной из тренировок в батарее, которой командовал В.Л. Баранов, по установке ракеты Р-12Н на пусковой стол из-за нерасторопности солдата – номера расчета случилась нештатная ситуация, при которой ракета грозила упасть на землю. Опасность заключалась в том, что она была заправлена токсичными компонентами топлива. При ударе ракеты о землю, ракета могла разрушиться, а компоненты топлива – вытечь из баков. Владимир Лукич рассказывал, как он быстро организовал расчет на удержание ракеты в равновесии с помощью тросов до подъезда установщика. Для этого пришлось ему залезать по корпусу ракеты на определенную высоту, чтобы закрепить тросы. «На подготовку ракеты Р-12Н к пуску, когда она находилась в хранилище на грунтовой тележке, требовалось около двух часов, – вспоминал Кирилин В.В.22, – в готовности номер один, когда ракета была установлена на пусковой стол и заправлена окислителем и горючим, она могла дежурить около месяца. Подготовка к пуску занимала 20 минут, время, необходимое для заправки перекиси водорода. Ракета на пусковой стол устанавливалась с помощью установщика и его тросовой системы. Ракету на грунтовой тележке стыковали к пусковому столу вручную, для этого необходимо было совершить несколько маневров, чтобы попасть в улавливающее устройство пускового стола. Делалось это по команде «к столу!», «от стола!» – это стало крылатой фразой в Ракетных войсках». Словом, боевая готовность 178-го рп неуклонно повышалась. Полк привлекался и для решения нетипичных для боевой ракетной части задач. Так, в 1962-1963 гг. одна из стартовых батарей и отделение регламентных работ 1-го рдн участвовали в полигонных испытаниях комплекса противоракетной обороны. Генерал-майор Гладун В.Г. писал: «…Я уехал из Подмосковья на Северный Кавказ, где стал начальником штаба вновь формируемого ракетного полка. С вдохновением я взялся за работу, а было ее непочатый край. Сейчас, когда минули годы всей моей воинской службы, я могу утверждать, что на этой должности (начальника штаба ракетного полка) я приобрел не только конкретные знания и опыт работы начальника штаба части, но и познал все стороны службы, жизни, деятельности полка от отдельного солдата до каждого подразделения и части в целом»23. 08 мая 1963 г. старший инженер-лейтенант Баранов В.Л. был назначен старшим помощником начальника отделения боевой готовности и боевой подготовки 35-й ракетной Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии (в/ч 34196). В октябре того же года ему было присвоено воинское звание инженер-капитан. Поскольку Владимир Лукич в дивизии отвечал за боевую подготовку, то можно только догадываться, сколько усилий он приложил для подготовки личного состава 35-й рд к проведению под руководством Министра обороны СССР стратегического учения «Гроза». На этих стратегических учениях впервые в истории РВСН ракетчики 35-й рд 22 декабря 1963 г. осуществили пуск ракеты с боевой стартовой позиции 480-го рп (командир дивизии генерал-майор Шевцов В.Н., командир полка – полковник Хуторцев С.В.). В сентябре 1966 г. Баранов В.Л. возвращается в 178-й рп на должность заместителя командира дивизиона, а в мае 1968 года он становится командиром дивизиона в 479-м ракетном Померанском орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полку (в/ч 33916). В ноябре 1967 г. Владимиру Лукичу было присвоено воинское звание инженер-майор. Необходимо отметить, что с 03 по 08 июня 1968 года в ходе стратегического учения «Весенний гром» под руководством Министра обороны СССР в 35-й рд впервые в ВС СССР был произведен залп стратегических ракет. С 20 августа по 01 сентября того же года дивизия была переведена в повышенную боевую готовность в связи с событиями в Чехословакии. Владимир Лукич в это же время заочно обучался в Пятигорском государственном институте иностранных языков, который окончил в 1971 году по специальности «Английский язык». Как он мне рассказывал, знание английского языка ему неоднократно помогало в жизни, о чем расскажу ниже. В апреле 1970 г. Владимир Лукич возвращается в свой 178-й гвардейский ракетный полк на должность начальника штаба – заместителя командира полка. 03 февраля 1972 г. Главнокомандующий РВСН присваивает Баранову В.Л. воинское звание подполковник. Уже в ноябре 1972 года подполковник Баранов В.Л. убывает в 50-ю рд на должность командира 431-го гвардейского ракетного Киевско-Ровенского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка. Но на этом связь Владимира Лукича с 35-й рд не прервалась, хотя 20 сентября 1980 г. 178-й рп был расформирован. В декабре 1981 г. 35-я рд в составе двух полков (479-й рп и 480-й рп) и управления дивизии была передислоцирована в пгт Боровиха Первомайского района Алтайского края и вошла в состав 33-й гвардейской ракетной Бериславско-Хинганской дважды Краснознаменной ордена Суворова армии (в/ч 43189). С 1994 г. основное место дислокации дивизии – ЗАТО Сибирский Алтайского края. В августе 1981 года Баранов В.Л. был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего и членом Военного Совета 33-й гвардейской ракетной армии. Можно только догадываться о его чувствах, когда он уже в новом качестве в служебных целях посещал 35-ю ракетную дивизию. Сохранились теплые воспоминания другого однополчанина Владимира Лукича генерал-лейтенанта Кирилина В.В. по похожим обстоятельствам24: «После окончания академии Генштаба в 1986 году я был назначен на должность первого заместителя командующего Омской армии, и в Барнауле встретился со своей [35-й] дивизией, которой командовал в то время полковник Соловцов Н.Е. Но это была уже не та дивизия и не те люди. Из офицеров своего полка я застал только одного подполковника Козлова, который во время моей службы в полку был оператором третьего отделения первой батареи, а теперь заканчивал службу в ртб дивизии. Мы с ним просидели в гостинице целый вечер, вспоминая дела давно прошедших дней. Полк был расформирован при передислокации дивизии в Алтайский край. Несмотря на то, что полк был сформирован осенью 1959 года, в анналах истории PBCH, как отдельный полк, он не проходит, и был включен в состав РВСН в 1961 году одновременно с формированием дивизии. Когда я писал эти воспоминая, тоска и гордость охватили меня за те прожитые годы. Мне посчастливилось служить со многими офицерами фронтовиками, о которых я здесь не упомянул, у них я многому научился, они не были специалистами-ракетчиками, но они были людьми с большой буквы, у них я учился человечности. Вместе со мной проходили службу интересные личности. Зам. командира полка капитан Гладун стал командиром этой дивизии, сменивший его выпускник академии им. Фрунзе майор Егоров В.Ф. стал командующим Читинской армии. Лейтенант Баранов В.Л. – начальником штаба Омской армии, лейтенант Коля Ласточкин – командиром дивизии, лейтенант Леша Гуров – доктор технических наук, профессор начальник кафедры академии им. Дзержинского. Лейтенант Витя Чинков – доктор технических наук, профессор заместитель начальника Харьковского высшего инженерного училища по науке. Да и других интересных людей было в коллективе Орджоникидзевского полка довольно много, с лейтенантом Витей Толстым, мы встречались в г. Виннице – полковник Толстых был заместителем начальника оперативного отдела армии армии. Взгляд со стороны. В должности заместителя командующего Омской армии я прослужил всего лишь год. Но несколько поездок в Барнаул особенно запомнились. Первая ознакомительная поездка поразила меня отголосками тех условий, в которых начинала свою деятельность дивизия в новом месте дислокации практически с нуля. Аэродром (вертодром) находился в стадии строительства, в центре жилого городка все было в котлованах, объектов соцкультбыта не хватало, монтажники собирали только коробки жилых домов, а всю отделку, сантехнику, электрику личный состав дивизии выполнял собственными силами, для чего был создан не штатный строительный батальон, меня это особенно поразило, раньше ни с чем подобным я не сталкивался, госпиталь располагался в сборно-щитовых казармах и частично в землянках, шел монтаж учебного корпуса. Полигон железобетонных конструкций, площадью несколько гектаров, был завален огромными кучами не ликвидного и ломанного ЖБК, да и других забот хватало и все это лежало на плечах командира дивизии полковника Соловцова Н.Е… В сентябре мы с генерал-лейтенантом Свотиным П.П. проехали по всем объектам дивизии. Он, по поручению главкома, проверял готовность дивизии к зиме. БСП полков были в образцовом состоянии, крупных замечаний у Петра Петровича не было. Вместе со Свотиным П.П. побывали мы и на строящемся унифицированном командном пункте дивизии. Для меня эта поездка была поучительной. В начале ноября я с группой офицеров управления армии прибыл проверить подготовку дивизии к проведению ноябрьских праздников, кроме этой целевой установки, мы дополнительно посмотрели и другие аспекты повседневной жизнедеятельности дивизии. Возник целый ряд вопросов, для разрешения которых требовалось решение командира дивизии. На обсуждение этих проблем мы потратили с полковником Соловцовым несколько часов. В конечном итоге, мы нашли необходимое взаимопонимание. Мне думается, что это взаимопонимание не утрачено до сих пор. В дальнейшем мне еще не раз пришлось побывать в дивизии, и я каждый раз отмечал при докладах Командующему армией, что дивизия уверенно идет вперед, что позволяло большую часть времени проводить в других соединениях армии». 1.2. Служба в 50-й ракетной Краснознаменной дивизии (1972 – 1976) В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года в Советских Вооруженных Силах начали создаваться бригады особого назначения резерва Верховного Главнокомандования. Непосредственное руководство этим процессом осуществляли заместитель Министра обороны СССР Маршал артиллерии М.И. Неделин и начальник штаба реактивных частей генерал-лейтенант М.А. Никольский. К 1955 году было создано семь таких бригад. Их первыми командирами являлись участники Великой Отечественной войны генерал-майоры А.Ф. Тверецкий и П.В. Колесников, а также полковники М.Г. Григорьев, Т.Н. Небоженко, М.М. Чумак, М.Н. Шубный, А.К. Дидык. Формирование бригад проходило в непростых условиях на ракетном полигоне Капустин Яр. 15 мая 1953 г. в Капьяре началось формирование 80-й инженерной бригады РВГК на основе 23-й бригады специального назначения РВГК. Приказ о создании бригады за подписью первого ее начальника штаба полковника Яковца А.Н. был отдан 30 мая 1953 года. Эта дата и считается днем создания 50 ракетной дивизии25. В июне 1953 года приказом МО СССР командиром 80-й инженерной бригады РВГК был назначен гвардии полковник Чумак М.М., который в годы Великой Отечественной войны командовал бригадой гвардейских минометов – первых в мире реактивных систем залпового огня «Катюша». В феврале 1954 года 80-ю инженерную бригаду передислоцировали на Украину (Житомирская область, село Белокоровичи). В то время на ее вооружении находился ракетный комплекс Р-1 (8А11). Уже в июле-августе 1955 г. всеми дивизионами 80-й бригады на полигоне Капьяр были проведены боевые пуски этих ракет. На одном из таких пусков присутствовал Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, который отметил хорошую выучку боевых расчетов и вручил отличившимся воинам ценные подарки26. 01 октября 1955 г. бригада была переформирована в 80-ю учебную инженерную бригаду РВГК. Она занималась подготовкой младших военных специалистов и переподготовкой офицерских кадров в интересах всех ракетных частей ВС СССР. Впоследствии выпускники – специалисты ракетного дела из 80-й бригады неоднократно показывали образцы мастерства владения ракетным вооружением в ходе плановой учебно-боевой работы. В мае 1959 г. 80-й учебной инженерной бригаде РВГК было возвращено прежнее наименование – 80-я инженерная бригада РВГК. В самом начале 1960 г. ракетные подразделения бригады были отправлены в Капьяр на традиционное обучение на ракетной технике с последующим пуском ракеты Р-12. Участник той командировки полковник Серебряков В.К., тогда лейтенант 181-го рп, вспоминает ее подробности и особенности: «…Наступил Новый 1960 год. По планам Главного Штаба РВСН наш дивизион в первой половине февраля в полном составе со своей штатной техникой должен выехать на Государственный испытательный полигон Капустин Яр для подготовки и сдачи зачета на допуск к самостоятельной работе и несению боевого дежурства по результатам пуска учебно-боевой ракеты. Началась интенсивная подготовка дивизиона к выезду на полигон. До этого момента каждое отделение технической батареи должно отработать по два комплексных занятия на технической позиции, а каждая батарея – по два комплексных занятия на стартовой позиции. Каждое занятие проводилось только в ночное время. Сложность их состояла в том, чтобы спланировать и своевременно осуществить передачу учебно-боевой ракеты между отделениями технической батареи и стартовыми батареями. Нам повезло с погодой, – стояла традиционная для этих мест мягкая зима, температура не опускалась ниже – 10 градусов по Цельсию. Наступил день отъезда, 10 февраля, с утра вся техника дивизиона выводится из учебных позиций на площадку с погрузочной рампой. К 12 часам на железнодорожную ветку подается эшелон – состав из четырехосных платформ с крепежными материалами для техники, пять теплушек для личного состава, караульного помещения и полевой кухни, плацкартный вагон довоенного образца для офицеров и штаба дивизиона. В соответствии с планом размещения техники начинается загрузка платформ, около 16 часов совместно с железнодорожниками проверяется крепление техники. В согласованное время эшелон по распоряжению диспетчерской службы железнодорожного узла вытягивается из военного городка. На маршруте движения эшелона, по графикам Министерства Обороны и Министерства путей сообщения, в крупных железнодорожных узлах предусмотрены остановки на запасных путях для смены тепловозных бригад и часовых караульной службы, организации приема пищи, пополнения запасов воды. Офицеры питались по нормам солдатского пайка из «общего котла» – полевой кухни. По мере продвижения на восток почувствовали похолодание. Снижение температуры в первую очередь заметили часовые на постах, и особенно при движении. Караульные выставлялись на посты в полушубках, валенках, шапках-ушанках с опущенными и подвязанными клапанами. Утром пятого дня пути эшелон прибыл на полигон на площадку выгрузки. Погода встретила нас, мягко говоря, не ласково: мороз – 20 градусов по Цельсию, сильный пронизывающий ветер, характерный для заволжских степей. Самыми неподготовленными к такой погоде оказались мы, – офицеры: шинель, полевая форма с нательным и теплым бельем, хромовые сапоги и легкие перчатки не спасали от холода. Было ощущение, что сапоги примерзли к подошве ног или наоборот. Чтобы как-то согреться приходилось интенсивно двигаться. В первую зиму Ракетных войск, нового вида Вооруженных Сил, выяснилось, что у офицеров нет теплой спецодежды, как в других видах и родах войск. В лучшем положении были наши солдаты и сержанты, одетые в стеганные, ватные штаны и телогрейки под шинель. В валенках, шапках-ушанках и трехпалых перчатках времен Великой Отечественной войны они чувствовали себя на воздухе неплохо. Мы же на практике усвоили справедливость сибирской поговорки: не мерзнет не тот, кто мороза не боится, а тот, кто тепло одевается. Еще один урок вынесли: в любом деле, особенно в критических ситуациях, недопустимы шапкозакидательство и суетливость. Пример тому легковесность ряда водителей при разгрузке: «Вот сейчас быстренько заведемся и разгрузимся!» Ан, нет! Масла в картерах и в мостах автомобилей замерзли, загустели, а беспорядочные попытки запустить двигатели приводили к тому, что аккумуляторы быстро «садились». Надежда на изменение погоды не оправдалась: время идет, а мороз не отступает. Выручил опыт бывшего тракториста, нашего начальника компрессорной станции, сержанта Акимова. Он снял воздушный фильтр, не включая зажигания «кривым стартером» рукояткой несколько раз прокрутил коленчатый вал двигателя, через патрубок фланца крепления фильтра капнул несколько капель эфира в двигатель и дал команду водителю выжать сцепление и запустить двигатель стартером. Ура двигатель запустился! А теперь, на первой скорости, на малых оборотах необходимо стронуть станцию с места и, повернув руль и прибавив газу, выскочить с железнодорожной платформы на рампу. Компрессорная станция массой девять с половиной тонн на ходу! А это хороший тягач, которым стягиваются остальные автомобили с платформ, которые на ходу уже заводятся. Наконец-то, выгрузка закончена. Дивизион походной колонной с командиром на ГАЗ-69 во главе двинулся на 10-ю площадку в автопарк, где размещается на отведенной стоянке. Личный состав побатарейно расквартирован в одном из ангаров, разделенном брезентовыми перегородками на отдельные секции – импровизированные казарменные помещения и столовую. В программу пребывания на полигоне дивизиона и, нашей батареи в частности, входили подготовка и сдача зачетов по конструкции ракеты, ее составных частей и систем; по комплексным горизонтальным испытаниям ракеты на технической позиции; итоговая подготовка ракеты к учебно-боевому пуску и оценка по результатам пуска. Теоретическая подготовка к зачету проводилась на кроватях в «казарме», в ангаре по комплекту конструкторской документации и Наставлению по боевому применению, привезенными с собой. На практические занятия офицеры заимствовали ватные телогрейки, штаны и валенки у номеров расчетов и дневальных, находящихся во внутреннем наряде… По готовности к сдаче зачета по практическому проведению комплексных испытаний и имитации пуска с учетом графика освобождения стартового и технического комплексов, – дивизион поочередно совершает марш на площадку № 4 в составе стартовой батареи и отделения технической батареи, которые сдают зачеты и ожидают свою очередь на учебно-боевые пуски. К 20 апреля обе батареи «отстрелялись» с оценкой «хорошо». Отделения технической батареи смотрели эти пуски с безопасного расстояния, было тепло, чистое, голубое небо, яркое солнышко, цветущие тюльпаны и посвистывающие у своих норок суслики. На этом фоне старт, грохот и рокот улетающей ракеты оставил ошеломляющее и трудноописуемое впечатление. Итог этого процесса – аттестация боевых расчетов, утвержденная в приказах начальника полигона и Главкома РВСН. Пора на «зимние» квартиры. Отдел железнодорожных перевозок полигона включил наш дивизион в план-график поставки эшелонов. По прогнозам, своей очереди придется ждать не менее двух недель. В это время отмывается техника, солдаты привлекаются на хозяйственные работы в автопарке, на площадках и в городке. Мы, офицеры, знакомимся со старым, крупным селом Капустин Яр и 10-й площадкой – городом с тем же названием (в 1962 г. город был переименован в Знаменск). В селе одноэтажной частной застройки есть сельсовет, школа, больница, церковь, магазины сельпо и коопторга, рынок и кустарные предприятия бытового обслуживания. Оказывается, из-за нехватки жилья в городе, часть молодых семей офицеров, служивших на полигоне, снимала комнаты в селе… Сам город чистый, аккуратный, в зелени молодых еще деревьев, с цветниками на улицах, ежедневно поливаемых в весенне-летний период. Весна была в разгаре, но мы с удивлением заметили, что в дневное время постоянно дуют сильные ветра, а вечером устанавливается теплая безветренная погода. В городе находится командование полигона. На центральной площади, рядом со зданием штаба полигона находится большой Дом офицеров. Внутри, к сожалению, побывать не удалось: командованием не рекомендовалось его посещать в полевой форме одежды. В городе развита инфраструктура объектов социального, культурного и бытового назначения. Есть в городе столовая, кафе, магазины Военторга. За время ожидания эшелона, мы, молодежь, иногда обедали в столовой, ужинали в кафе, отдыхали от меню солдатского пайка, в котором изрядно надоели печень сайгака и пюре из замороженных полуфабрикатов картофеля с соей. По мнению местных жителей, город обрел такой ухоженный вид из-за хозяйского отношения к нему бессменного начальника полигона, генерал-лейтенанта Вознюка В.И. Числа 10-го мая стало известно, что состав под погрузку будет подан нам утром 12-го мая. Стали готовиться к отъезду. Утром 12 мая начали марш на площадку погрузки. Погрузка техники и проверка готовности к выезду прошла штатно. В 16 часов эшелон отправляется в родные «Бычки». Погода весенняя, переезд воспринимался как легкое путешествие. В городок прибыли около полудня 19 мая, быстро разгрузились и заняли свои полевые позиции». В период с ноября 1959 г. по февраль 1960 г. 1-й рдн 163-го рп этой бригады под командованием майора Гаврикова С.Ф., используя штатные заправочные средства и вооружение ремонтно-технической базы, успешно провел в Забайкалье в условиях низких температур (– 46о…– 54о) климатические испытания ракетного комплекса 8К63. По окончании проведения серии комплексных занятий, дивизион с боевой ракетой по бездорожью провел дневной и ночной марши на расстояние соответственно 500 и 1000 км. В сложной обстановке участники испытаний показали высокую выучку, а и штатная автотракторная техника дивизиона – техническую надежность. Военно-политическая обстановка в мире обострилась после сбитого 01 мая 1960 г. над Уралом американского самолета-шпиона U-2. Вместо заранее намеченных переговоров в Париже между руководством США, Англии, Франции и СССР, страны Запада привели свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность. В ответ на это советское правительство принимает аналогичное решение. В этой обстановке 163-й рп (командир полка подполковник Крутов Н.М.) был поднят по тревоге и совершил 450-километровый марш своим ходом в Западную Украину в район г. Броды Львовской области. Двумя дивизионами полк занял построенные там боевые позиции и приступил к несению боевого дежурства. Боевые ракеты и головные части были доставлены железнодорожным транспортом. Вскоре полк посетил Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский. Его сопровождал Главнокомандующий РВСН Главный маршал артиллерии М.И. Неделин. Министр обороны побывал на технической позиции, где в этот момент проводились занятия на ракете Р-12, и объехал все старты обоих дивизионов. Увиденным Министр обороны СССР остался доволен. В пункт постоянной дислокации полк возвратился только в декабре 1960 года, с честью выполнив поставленные задачи. Однако имеются воспоминания ветерана 50-й рд полковника Серебрякова В.К., в то время лейтенанта 181-го рп, которые позволяют утверждать, что в марше ракетной техники Белокоровичи – Броды принимали участие ракетные дивизионы не только 163-го рп: ««По окончании перевода техники на осенне-зимний период эксплуатации, наш дивизион перебрасывается во Львовскую область, в район города Броды, на готовый позиционный район, дислоцирующийся в авиагородке под городом Золочев, но еще не допущенный к боевому дежурству. Нам предстояло заступить на боевое дежурство в этом позиционном районе. Такой маневр был приурочен к началу работы Генеральной Ассамблея ООН, на которой Н.С. Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «Кузькину мать». По уже знакомой технологии дивизион эшелоном прибывает на площадку выгрузки близ города Червоноармейск Львовской области, от которой маршем батарейными колоннами, через Червоноармейск, минуя город Броды прибываем в позиционный район близ сел Лешнево и Берестечко, занимаем свои места по плану расквартирования. Вместе с «головастиками» [специалисты по ядерным головным частям] и заправщиками заняли свои площадки, сооружения и приступили к несению боевого дежурства в указанное предписанием время. Осваиваем ритуал заступления на боевое дежурство. Двухсменный режим дежурства позволил командованию предоставлять семейным офицерам свободных смен раз в две недели увольнение на четыре дня, на «зимние квартиры» к семьям. Из этих четырех дней на дорогу (500 км) туда и обратно уходило два дня, а двое суток на общение с семьями. На такие поездки выделялся опытный водитель на бортовой ЗИЛ-157 с брезентовым тентом и ватными матрасами на которых сидели или лежали офицеры в утепленной одежде в пути «на побывку» и обратно». В августе – сентябре 1961 года 2-й рдн под командованием майора Ширшова B.C. 181-го рп (командир полковник Бандиловский Н.Ф.) и 331-й ртб под командованием подполковника Иванова И.Г. в соответствии с решением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 285-114 от 11 марта 1960 года и согласно приказу МО СССР № 0076 от 05 августа 1961 г. приняли участие в специальном учении с целью подтверждения надежности действия ракет средней дальности Р-12 с ядерным зарядом и точности их попадания в цель (стратегическая операция «Роза»)27. Учение проводилось в три этапа: рекогносцировка и подготовительные мероприятия – с 27.07 по 10.08.61; сосредоточение частей и подразделений, подача ракет, топливных частей, компонентов топлива и подготовка позиционного района к боевым пускам – с 10.08 по 4.09.61; боевые пуски ракет из поселка Полярный (Северный Урал, 106-й км Северной железной дороги) в район падения на территории о. Новая Земля (расчетная дальность пусков составляла 846 км). Учебно-боевые пуски 03 и 04 сентября 1961 г. Носили исследовательский характер, а 12 и 16 сентября 1961 ракеты Р-12 впервые доставили к цели ядерные боеприпасы высокой мощности (4-я стартовая батарея, командир капитан Трефилов Н.В. и 1-я стартовая батарея, командир капитан Распопов В.М.). Мощность первого боевого термоядерного заряда в 57 раз превосходила атомную бомбу, сброшенную американцами на Хиросиму в 1945 году, а второго – в 42 раза. Задание высшего руководства страны было выполнено успешно, высокие тактико-технические данные нового оружия полностью подтвердились28. Личный состав, участвовавший в учениях, показал высокую выучку и слаженность в работе. О «последствиях» тех событий рассказывает однополчанин участников стратегической операции «Роза» полковник Серебряков В.К.: ««Для подготовки и проведения учения по планам ГШ МО СССР и ГШ РВСН под кодовым названием «операция Роза» формируются группы рекогносцировки, расквартирования, подготовки временного позиционного района для полевых позиций комплекса Р-12 в приполярном Урале в районе города Салехард. Сформирован сводный ракетный дивизион в составе стартовых батарей капитана Распопова В.А. и капитана Трефилова Н.В., технической батареи старшего лейтенанта Колесникова В., батареи заправки и отделения подготовки данных старшего лейтенанта Горбунова И.И. Этот дивизион под командой майора Ширшова В.С. произвел 03-го и 04-го сентября 1961года исследовательские учебно-боевые пуски Р-12 с грузомакетами головных частей, а 12-го и 16-го сентября – пуски с термоядерными зарядами мегатонного класса. Пуски производились по опытному полю северного острова архипелага Новая Земля. Сами учения подробно описаны в опубликованных воспоминаниях непосредственных участников стратегической операции «Роза» и в исторических исследованиях, изданных Штабом РВСН. Я же в качестве курьеза отмечу реакцию на проведенные испытания со стороны соседних скандинавских стран – поставщиков бумаги для полиграфической индустрии, о которой нигде не пишут. В конце года мы в ходе подписной кампании неожиданно отметили отсутствие обязательной подписки на газеты и журналы, скажу больше – были ограничения на подписку печатных средств массовой информации». Особая страница в истории 50-й ракетной дивизии – участие ее в разрешении Карибского кризиса (официально – июль – декабрь 1962 года, а фактически – с мая того же года). От 50-й рд в состав формируемой на базе 43-й гвардейской ракетной дивизии (г. Ромны, Сумская обл.) «кубинской» 51-й ракетной дивизии (командир генерал-майор Стаценко И.Д.) был отряжен 181-й рп (н.п. Липники, командир полка полковник Бандиловский Н.Ф.), переименованный для передислокации на Кубу в 539-й рп, и ряд обеспечивающих подразделений. Участие РВСН в Карибском кризисе вошло в историю под названием военно-стратегическая операция «Анадырь». 181-й рп (в/ч 32157, позывной «Дельфин», пгт Липники, Житомирская обл.) 50 ракетной дивизии проходил службу в должности начальника секретной части.) в дивизии был особым. Это единственный в то время ракетный полк в РВСН, который имел реальный опыт стрельбы ракетами Р-12 с ядерными головными частями. В связи с проведением операции «Анадырь» 181-й рп 01 июля 1962 года был переименован в 539-й ракетный полк, а 01 сентября 1962 г. выведен с боевого дежурства и отправлен на Кубу в составе 51-й ракетной дивизии. Серебряков В.К. вспоминает: «В первой декаде мая [1962 г.] в штабе дивизии работает кадровая комиссия в составе командования, и кадровиков дивизии, 181 рп, 331 ртб, представителей командования 43 РА и особого отдела по отбору офицеров, рядового и сержантского состава для доукомплектования 181 рп, который был назначен для выполнения особого задания. Отбор проводился по совокупности показателей морально-деловых качеств, высоких показателей специальной подготовки, состоянию здоровья, семейному положению и другим. По проводимым мероприятиям подспудно проявляется ощущение подготовки к неординарным событиям в противостоянии двух мировых социальных систем – социализма и коммунизма… Семьям офицеров разрешается временный выезд из гарнизона в любой город и населенный пункт к своим родственникам. Городок погрузился в атмосферу ожидания каких-то перемен и подготовки к ним». Ветеран 181-го рп, участник операции «Анадырь» Полковников В.П. писал: «В мае 1962 г. прошел слух, что в/ч 32157 (181 рп), управление которой также располагалось в нашем городке, будет направляться за границу. Куда – мы не знали, хотя две горячие точки в то время были известны – Индонезия (Северный Калимантан) и Куба»29. В результате отбора лейтенант Серебряков В.К. по настоянию командира 181 рп полковника Бандиловского Н.Ф., по семейному обстоятельству, – рождению 04-го мая сына, второго ребенка в семье, – был назначен в службу спецвооружения дивизии. 539-й ракетный полк двухдивизионного состава был сформирован по штату военного времени: 1880 человек личного состава, 12 ракет, 8 пусковых установок с необходимым комплексом стартового и технологического вооружения и специальной техники. Хочу отметить, что вместе с полком убыл и начальник секретной части 539-го рп старший сержант сверхсрочной службы Левченко В.Н. 25 октября 1962 года оба дивизиона 539-го ракетного полка заступили на боевое дежурство в западной части острова Куба (оба района 10 км севернее Лос-Паласьос, самый ближний полевой район к территории США). В это же время Серебряков Владимир Константинович, как и другие оставшиеся в Белокоровичах ракетчики 50-й рд, в составе сокращенного боевого расчета стартовой батареи 163-го рп (в/ч 32156) нес боевое дежурство в позиционном районе в повышенной боевой готовности. Имея допуск к производству секретных работ, в штабе 51-й рд (в Бехукале) Левченко В.Н., помимо выполнения должностных обязанностей, на печатной машинке печатал доклады командира дивизии о действиях формирования в период с 12.07.1962 года по 01.12.1962 года. После прибытия с Кубы, Владимир Николаевич в составе отдельной группы военнослужащих 51-й рд нарочным был отправлен в Москву с пакетом, где находился знаменитый ныне доклад командира 51-й ракетной дивизии30, так как генерал-майор Стаценко И.Д. оставался в порту руководить разгрузкой вооружения, военной и специальной техники соединения, прибывающей из Кубы. В июле 1969 года боевые расчеты 163-го рп совместно с боевыми расчетами 43-й рд совершили железнодорожный марш на полигон Капьяр и провели впервые в РВСН залп всеми пусковыми установками ракетного комплекса 8К63. С февраля 1984 года дивизия начала перевооружаться и осваивать новый подвижный ракетный комплекс РСД-10 «Пионер». Вершиной самоотверженного труда всего коллектива 50 рд стало заступление в установленные сроки на боевое дежурство. 04 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «За большие заслуги в вооруженной защите социалистической Родины, успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 40-летием Победы советского народов Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» Белокоровичская ракетная дивизия была награждена орденом Красного Знамени. При награждении дивизии орденом Боевого Красного Знамени, конечно же, учитывалось не только успешное выполнение задания Главнокомандующего РВСН, связанное именно с перевооружением, но и все предыдущие, начиная с 1953 года, заслуги личного состава соединения. 26 апреля 1986 года все позиционные районы 50-й ракетной дивизии (в большей степени – 181-й рп) подверглись радиоактивному заражению в результате аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС. 30 апреля 1991 года состоялся приказ Министра обороны СССР о расформировании 50-й ракетной Краснознаменной дивизии (в/ч 52035). За 38 лет существования соединения (1953 – 1991) его личным составом были последовательно освоены с заступлением на боевое дежурство следующие ракетные комплексы: Р-11 (8А11), Р-2 (8Ж 38), Р-11 и Р-11М (8К61), Р-5 и Р-5М (8К51), Р-12 (8К63) и Р-12У (8К63У), РСД-10 («Пионер»). Командиры 50 рд: Ладилов А.Н., Гнидо П.А., Бондаренко Б.А., Лобанов Б.И., Иванушкин В.М., Чичеватов Н.М., Вершков И.В., Вахрушев Л.П. Здесь хочется отметить интересную деталь, о которой писал генерал-майор Иванушкин, командовавший 50-й рд с марта 1975 г. по июнь 1978 г.: «Дивизия была наследницей кавалерийской дивизии, которой в свое время командовал С.М. Буденный». В 50-й рд служили легендарные генералы РВСН, общение с которыми мне доставляет удовольствие: Леонид Григорьевич Гасаненко и Евгений Семенович Бородунов. Здесь я подробнее хотел бы рассказать о генерал-майоре Бондаренко Борисе Андреевиче, который командовал 50-й ракетной дивизией с июля 1964 года по ноябрь 1971 года31. Этому моему желанию есть три объяснения: я имел счастье неоднократно общаться с Борисом Андреевичем на рубеже 1990 – 2000-х годов по ветеранским делам, он мне подарил несколько своих книг; я много хорошего слышал о нем от ветеранов 43-й гвардейской ракетной дивизии и 50-й Краснознаменной ракетной дивизии и третье (личное), – когда моего тестя Левченко В.Н. переводили из 181-го ракетного полка в штаб 50-й рд, то комдив Бондаренко на своем «уазике» лично перевозил «домашний скарб» Владимира Николаевича и его жены Татьяны Николаевны, а их детей Светлану (мою жену) и Валерия Борис Андреевич во время переезда держал на руках.
Такое внимание комдива Бондаренко Б.А. к старшему сержанту сверхсрочной службы было вызвано не только тем обстоятельством, что Левченко В.Н. был классным специалистом, но и тем, тем обстоятельством, что они Левченко В.Н. знали друг друга еще со времен проведения стратегической операции «Анадырь». Кроме того, к Борису Андреевичу в высшей степени уважительно относился и Владимир Лукич Баранов. Он воспоминал32: «В этом году исполняется 45 лет со дня создания Ракетных войск стратегического назначения. Это праздник ракетчиков всех поколений. Особенно он дорог тем, кто с первых дней образования РВСН непосредственно участвовал в возведении и совершенствовании ракетно-ядерного щита нашего Отечества, кто нес боевое дежурство, обеспечивая постоянную боевую готовность ракетных частей и подразделений. 45 лет, не прерываясь ни на секунду, несут боевое дежурство офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты, обеспечивая безопасность и независимость Родины. В 50-й ракетной дивизии РВСН я прослужил четыре года: 1972 – 1974 гг. – командир 431-го ракетного полка, 1974 – 1976 гг. – начальник штаба дивизии. Совет ветеранов 50-й ракетной дивизии занимается созданием книги, посвященной истории 50 рд РВСН. Наряду с другими ветеранами, мне предложено поделиться воспоминаниями о своей службе в прославленном соединении. Очень приятно, что ответственным редактором книги является заслуженный генерал, обаятельный человек, в течение почти восьми лет (1964 – 1971 гг.) командовавший 50 рд, Борис Андреевич Бондаренко, о котором я слышал много доброго, проходя службу в дивизии. Так рассказывать о своем командире можно только при большом уважении к нему». Генерал-майор Бондаренко Б.А. писал: «Я, Бондаренко Борис Андреевич, родился 15 марта 1923 года в деревне Ново-Московка Омского района Омской области в семье крестьян. В 1934 году, после окончания четвертого класса (в нашей деревне была только начальная школа) родители определили меня в среднюю школу в Омске и устроили для проживания на частной квартире. С этого момента я один, безо всякого присмотра, вдали от родителей прошел весь свой жизненный путь. В 1940 году я окончил 10 классов средней школы № 38 г. Омска и поступил в Омский сельскохозяйственный институт на гидромелиоративный факультет.
22 июня 1941 года, возвращаясь в город из института, который находился в десяти километрах от Омска, я увидел на трамвайной остановке многочисленные группы людей, которые о чем-то оживленно беседовали. Я подошел к одной из групп и узнал о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. ВОЙНА! В скором времени мой отец, Андрей Петрович Бондаренко, был призван в действующую армию и убыл на фронт33, а я, оставив учебу в институте, поступил (добровольно) в 1-е Томское артиллерийское военное училище, которое в то время находилось в летних лагерях недалеко от железнодорожной станции Юрта. Будучи курсантом (обучение шло по ускоренной программе), я получил первичное звание – младший сержант и был назначен командиром учебного отделения, которое состояло из девяти курсантов. В декабре 1941 года всех младших командиров без выпускных экзаменов выпустили из училища с присвоением звания лейтенант и направили в районы формирований сибирских дивизий. Вместе с группой лейтенантов я прибыл в село Кузедеево (Кемеровская обл.), где велось комплектование 691-го артиллерийского полка 237-й стрелковой дивизии Сибирского военного округа. В составе этого полка я прошел весь свой боевой путь по дорогам Великой Отечественной войны»34. Когда артиллерийский полк был сформирован, то командование провело проверочные боевые стрельбы. Лейтенант Бондаренко отстрелял на «отлично» и был назначен командиром 122-мм гаубичной батареи, минуя взводное звено. 691-й артполк, как и вся 237-я стрелковая дивизия, готовился к участию в прорыве блокады Ленинграда, поэтому в середине апреля 1942 года дивизию по железной дороге нас перебросили под Вологду. В середине лета 1942 года обстановка на фронтах резко обострилась в связи с тем, что немцы прорвали оборону наших войск и устремились через Воронеж на восток (в обход Москвы) в направлении Сталинграда. 237-ю дивизию погрузили в железнодорожные эшелоны и срочно отправили в район Липецка. Боевую позицию дивизия после марш-броска и переправы на западный берег Дона в районе села Хлевное. Здесь, в боевых порядках Воронежского фронта, в июле 1942 года и состоялось боевое крещение Бориса Андреевича. Произошло это в районе села Большая Верейка Липецкой области35. Ранним утром, после огневого налета, немецкие танки буквально выдавили 1-й дивизион 691-го артполка, где лейтенант Бондаренко командовал 3-й гаубичной батареей, с занимаемых позиций. Немецкие танки наезжали на окопы, разворачивались на них, раздавливая гусеницами красноармейцев. Из трех стрелковых полков осталось два, из трех артиллерийских дивизионов набралось лишь два. 237-я стрелковая дивизия, понеся большие потери, отошла к берегу реки Дон, но остановила немецкое наступление. Но и красноармейцы потрепали немцев: 691-й артполк уничтожил несколько танков противника и примерно роту немецкой пехоты. Ночью дивизия была переформирована и, проведя несколько контратак, на третьи сутки, после упорных боев, вернулась на прежние позиции. Борис Андреевич вспоминал: «Перед глазами предстала ужасная картина разгромленных наших позиций, усеянных телами убитых сослуживцев… Здесь же мы всех и захоронили с почестями, как героев. В последующем, до глубокой осени 1942 года, шли упорные оборонительные бои, а с наступлением зимы и мы, и немцы перешли к позиционной обороне на рубеже Тербуны – Касторное – Озерки. Здесь мне было присвоено звание старший лейтенант, я был награжден орденом Отечественной войны II степени и назначен на должность помощника начальника штаба 691-го артполка. Так прошло мое первое боевое крещение. В дальнейшем тяжелых, жестоких, кровавых боев, в которых довелось мне принимать участие, было очень и очень много, но тот, первый мой бой запомнил я на всю жизнь36». Всю войну Б.А. Бондаренко прошел в составе 691-го полка, приняв участие в оборонительных и наступательных операциях Воронежского, 1-го и 4-го Украинских фронтов в должностях: командир батареи, помощник начальника штаба полка, командир дивизиона, заместитель командира 691-го артполка. Мой боевой путь Бориса Андреевича выглядит следующим образом: г. Липецк – г. Задонск – с. Хлевное (лето 1942 г.) – с. Тербуны (осень 1942 г.) – села Касторное, Горшечное, города Тим, Обоянь и Суджа (Курская область, зима 1943 г.) – с. Угроеды – г. Краснополье (Курская дуга) – г. Лебедин (Сумская область, лето 1943 г., здесь уже после Великой Отечественной войны дислоцировался 665 рп, в котором я в 1985 – 1990 гг. служил, а в год моего рождения Б.А. Бондаренко был назначен начальником штаба 43 рд, в состав которой и входил 665 рп) – с. Гадяч – г. Пирятин (Полтавская область, лето 1943 года) – села Ягодин, Ржишев (первое форсирование Днепра) – город Переяслав-Хмельницкий (второе форсирование Днепра) – г. Васильков (третье форсирование Днепра, Киевская область, сентябрь –ноябрь 1943 г.) – с. Ставшие – с. Юзефовка (Житомирская область, декабрь 1943 г., в этой же области в соседнем Олевском районе дислоцировалась 50 рд, командиром которой был Б.А. Бондаренко) – города Козятин, Винница, Жмеринка, Бар (Винницкая область, весна 1944 г.) – село Новая Ушица, города Каменец-Подольский, Хорин (Хмельницкая область, март 1944 г., форсирование реки Днестр) – с. Городенка, г. Станислав – (Ивано-Франковская область, лето 1944 г.) – города Мукачев, Чоп (Закарпатская область, осень 1944 г., выход на Государственную границу с Польшей и Чехословакией) – город Кошица, город Моравская Острава (Чехословакия, весна 1945 г.). 05 мая 1945 года майор Бондаренко Б.А. под городом Моравская Острава был ранен немецким снайпером в тазобедренную область. Разрывная пуля угодила в трофейный пистолет. Осколками этого пистолета поразило правую ногу. Осколки врачи извлекали, проведя три операции. После выписки из полевого госпиталя, Борис Андреевич отправился разыскивать свой полк, который передислоцировали из Праги в Восточную Пруссию. В скором времени полк перебросили в Грузию (в район городов Ахапцихе и Ахалкалаки). Здесь Борис Андреевич служил в должности командира горно-вьючного минометного дивизиона и начальника школы сержантов. В 1947 году он был направлен на учебу в Ленинградскую высшую офицерскую артиллерийскую школу, по окончании учебы в 1949 г. продолжил работу в качестве преподавателя и старшего преподавателя. В 1955 году Борис Андреевич поступил в Ленинградскую военную артиллерийскую командную академию. После ее окончания Борис Андреевич в числе восьми лучших выпускников был вызван на личную беседу к заместителю Министра обороны СССР по специальному вооружению и ракетной технике (до создания РВСН была такая должность) Маршалу артиллерии Митрофану Ивановичу Неделину, который поручил им формирование первых ракетных полков. Ракетный полк Б.А. Бондаренко сформировал в августе 1959 г. в украинском городе Славута (Хмельницкая область) и командовал им в течение двух лет. Затем он был назначен на должность заместителя командира 43-й гвардейской ракетной дивизии, дислоцировавшейся в городе Ромны. Когда началась ракетная эпопея в период Карибского кризиса, то на полковника Бондаренко была возложена ответственная задача: в обстановке строжайшей секретности организовать и отправить на Кубу военную технику, вооружение и личный состав дивизии. Борис Андреевич рассказывал, что секретность передислокации 51-й рд была настолько велика, что даже он, назначенный на должность заместителя командира 51-й рд, не знал: куда и зачем отправляется техника, имущество и личный состав дивизии. Раз операция «Анадырь», то на полном серьезе в отправляемое имущество включали лыжи и полушубки. «И только после того, – говорил Б.А. Бондаренко, – когда командир дивизии генерал-майор Стаценко Игорь Демьянович, который на тот момент уже находился на острове Кубе и с группой офицеров, осуществляя там рекогносцировку, обратным рейсом теплохода каким-то чудом передал записку, где только намекнул о «жарком и влажном климате», мы поняли какое имущество надо отправлять в новое место дислокации дивизии». Со своей задачей Б.А. Бондаренко справился блестяще. На протяжении всего процесса погрузки и отправки теплоходов из порта Николаев не было не то, что ни единого ЧП, а даже мелких нарушений и отступлений от установленного графика. Все суда ушли в рейсы своевременно, а Борис Андреевич к месту дислокации дивизии убыл на последнем теплоходе. Но этот теплоход до Кубы не дошел: к тому времени США организовали три кордона блокады Острова свободы. Когда в 1962 г., после выполнения Особого правительственного задания – предотвращения американского вторжения на Кубу, дивизия вернулась в свой позиционный район, то оказалось, что он занят 18-й ракетной дивизией (г. Шадринск), которая в целях оперативной маскировки получила наименование 43-я гвардейская ракетная дивизия37. Как рассказывал Борис Андреевич, в то время уже начальник штаба 43-й рд: «Получилось так, что одна дивизия имела двойные штаты». Полковник Бондаренко был переведен в 50-ю ракетную дивизию (с. Белокоровичи Житомирской области) на равноценную должность начальника штаба, которую он исполнял в течение двух лет. Белокоровичской дивизией в то время командовал легендарный летчик Великой Отечественной войны Герой Советского Союза генерал-майор Гнидо П.П. Он в воздушном бою 12 декабря 1941 г. на истребителе И-16, израсходовав все боеприпасы, таранил самолет врага; за годы войны совершил 412 боевых вылетов; участвовал в 82 воздушных боях, сбил лично 34 и в группе 6 самолетов противника; четыре раза сам был сбит, спасался на парашюте; в одном из боев «привел» вражеский самолет на наш аэродром. О Петре Андреевиче Гнидо полковник Серебряков В.К. рассказывал такой случай из своей военной службы: «В конце августа 1963 г. получаю очередное воинское звание старший техник-лейтенант. После довольно скромного ужина со сослуживцами нашей батареи гурьбой идем в Дом офицеров на танцы. Навстречу едет командир дивизии генерал-майор Гнидо П.А. Он остановил машину, подошел к нам. Я, как виновник, в расстегнутой шинели докладываю: «Товарищ генерал, старший лейтенант Серебряков, представляюсь по случаю получения очередного воинского звания. Немного выпили, идем в Гарнизонный дом офицеров на танцы». Естественно, мы ожидали, в лучшем случае громкого разноса. Но, к нашему удивлению, он поздравил меня, по-отечески пожурил за неопрятный внешний вид и пожелал отдохнуть без происшествий. Вот это был урок! Этот эпизод еще один штрих к воспоминаниям офицеров, военнослужащих, служащих и жителей городка о командире дивизии и начальнике гарнизона Гнидо П.А., требовательном, справедливом, заботливом отце-командире, хозяине гарнизона. При нем организуется эффективная комендантская служба в гарнизоне и окрестностях, устанавливается тесное взаимодействие с командованием строительных частей и батальонов, повышаются требования к ним, как к подрядчикам, по срокам и качеству производимых работ, по наведению порядка и восстановлению дисциплины в стройбатах, выстраивается система контроля за боевой, особенно специальной, подготовкой частей и подразделений соединения, благоустраивается военный городок». С уходом на повышение в 1964 году комдива 50-й рд Героя Советского Союза генерал-майора Гнидо П.А., полковника Бондаренко Б.А. назначили командиром Белокоровичской ракетной дивизии. Борис Андреевич также не «почивал на лаврах», а самоотверженно работал по укреплению боевой готовности дивизии, как говорили ветераны, с удвоенной и даже утроенной энергией. На одной из встреч бывших ракетчиков в Московской городской организации ветеранов РВСН услышал такой рассказ о периоде, когда дивизией командовал генерал-майор Б.А. Бондаренко: «Однажды в наш 2-й дивизион [181 рп] приехала комиссия. Проверялся какой-то частный вопрос вышестоящим штабом. Командир дивизиона вел себя с проверяющими вежливо, но в то же время с достоинством. Все шло по отработанной схеме, ничего неординарного не возникало, но вот председатель комиссии дает команду: «Объявите дивизиону тревогу». Командир дивизиона тут же довел эту команду до командира дежурных сил. Для всех нас она была достаточно привычной и воспринята как должная. Через несколько мгновений вечернюю тишину нарушил топот десятков солдатских сапог, а спустя несколько минут фигуры солдат уже мелькали везде. Ими был охвачен весь автопарк, склады спецтоплив, КПП, здания и сооружения технической зоны. Боевая стартовая позиция наполнилась ревом двигателей КрАЗов, АТТ, дизельных электростанций. Набирал обороты мощный механизм приведения дивизиона в боевую готовность, в котором смешались в едином, невообразимом круговороте и люди, и техника. Основной поток людей устремился в сторону стартовых позиций батареи. Председатель комиссии был просто поражен тем, что вызвала его команда. Вероятно, он не очень хорошо представлял себе действия личного состава ракетного дивизиона по тревоге. На его лице явно читалась растерянность, даже небольшой испуг, в голосе уже не было начальственных ноток. Следующее приказание руководителя проверки командиру дивизиона больше походило на просьбу: «Товарищ подполковник, дайте команду «Отбой», остановите их», – на что ему был дан ответ: «Нет, товарищ полковник, остановить их в данный момент не сможет никто. Очередную команду до них можно будет довести лишь после занятия ими исходного положения боевой готовности». Час с лишним ушло на то, чтобы дивизион занял исходное положение боевой готовности, затем вдвое больше понадобилось для возвращения техники в автопарк, ее дозаправки и проверки, а также для докладов о наличии личного состава, оружия, имущества». Ветеран 50-й рд Б.В. Юрьев вспоминал в своем очерке «Настоящий русский генерал»: «Чтобы подтвердить заголовок моего очерка, приведу всего два совсем маленьких эпизода. Первый. Из штаба армии в 50 рд, которой командовал Б.А. Бондаренко, со специальным поручением прибыл офицер отдела ракетного вооружения. В кабинете командира дивизии не оказалось. На вопрос: «Где генерал-майор Бондаренко», – дежурный по штабу, улыбнувшись, ответил: – «Сегодня же четверг – парковый день, значит он где-нибудь под установщиком». Дежурный, что говорится, как в воду глядел. Командира дивизии, одетого в рабочий комбинезон, нашли в одном из полков, действительно, под установщиком: он помогал стартовому расчету менять смазку шасси. Второй. Рассматривается и утверждается план строительства новых объектов и сооружений на территории военного городка дивизии на 1969 год. Давно и обосновано хозяйственники предлагают построить здания для складских помещений. Борис Андреевич это понимает, но как командир дивизии дает распоряжение: «Основные силы и средства сосредоточить на возведении еще одного жилого дома для офицерского состава». Объясняет свой приказ он очень просто: «Плохие условия, в которых живут семьи военнослужащих, отрицательно сказываются на исполнении офицерами своих функциональных обязанностей, а это неминуемо приводит к снижению боеготовности дивизии в целом». Забота о подчиненных ему людях и личный пример – это главное, что характеризовало Бориса Андреевича Бондаренко как командира и человека, настоящего русского генерала. Именно таким навсегда запомнят его все, кто с ним воевал, служил в РВСН, работал в учебных заведениях и управлениях МО СССР38». А вот свидетельство солдата, служившего в Ново-Белокоровичах в 1965 году, найденное мной на сайте газеты «Казахстанская Правда»: «Прекрасно помню 09 Мая 1965 года. Городок Ново-Белокоровичи на Украине. Тогда я – молодой сержант-ракетчик – вместе со своими товарищами стоял в воинском строю, а в голове строя – наши командиры, и тесно было на их груди от боевых наград, и седина едва заметно серебрилась на их висках. Гремел оркестр, нам всем вручали медали «20 лет Победы», и мы были необыкновенно горды тем, что получаем эти юбилейные награды вместе с фронтовиками. Чуть не каждый наш командир во время войны громил врага на этой земле, часть из них были прежде артиллеристами, часть – летчиками, они и стали костяком создававшихся Ракетных войск. Ветераны были еще молоды, и никто ветеранами их тогда не называл. О себе всегда рассказывали скупо, иногда роняли: «Вот здесь в сорок четвертом нам тяжело пришлось... А здесь Вася погиб...». Однажды мы были на заготовке дров – чего только солдатам не приходится уметь! – бензопилами валили сухие деревья. И вдруг одна из пил завизжала и остановилась. Оказалось, что зубья пилы попали на осколок снаряда, засевший в дереве с войны. И тогда капитан Соловьев рассказал нам о страшном бое, который гремел здесь чуть больше двадцати лет назад. Нам думалось: это было целую жизнь назад! Ведь нам было тогда по двадцать лет...» Вот несколько солдатских баек, взятых из Интернета, рассказанных солдатами, служившими в 50-й рд (ракетчики поймут сленг): «Летом 1969 был такой случай. Я был дежурным по автопарку. Заезжает на заправку чужой УАЗ, толь с Бычков, толь с полка. Выезжая, [водитель] попросил указать дорогу до зоны. А мне надо было зачем-то на склад СТ [спецтоплив]. А тут попутка. Оказывается, водила привез врача-ветеринара из местной гражданской ветстанции. Намедни на сетку попал кабан и доктор прибыл для освидетельствования зараженности или здоровости того зверюшки. В случае позитивности экспертизы, мясо должно было перекочевать в УАЗик. Подъехали. Машина перед КП-2 осталась, Я в зону прошел, возвращаюсь, а на КП-2 ругань стоит: ветеринара всем миром уверяют, что ничего от кабанчика не осталось, кроме копыт. Собаки, мол, его оприходовали, да и зверюшка-то пацаненком был. Проходя мимо, я видел эти копыта. «Пацаном» там и не пахло. С чем уехал дохтур, – с жаждой написания рапорта или с куском мяса в багажнике, – я не знаю». «Летом 1969 г. у караулки жила целая свора дворняжек. Одного кудлатого кобелину звали «Охломон», у другого, самого горластого, была аристократическая кличка «Дембель». Собаки при караулке всегда жили. Никто их там не гонял, подкармливали солдатским пайком. Наш распорядок стая соблюдала четко: к снятию напряжения лежала у калитки, к ужину ждала своей пайки за пулеулавливающей стенкой. Хитрющие были – к сетке ни на шаг не подходили. Но они приспособились проверять сетку и подбирать из-под нее всяких мелких животных. Как только снимали напряжение и отправлялись на обход П-100, вся стая бежала впереди нас». «При «добыче» на сетке диких животных от зайца до кабана, у нас ветеринара не вызывали. Съедалось все без экспертиз. Вроде пока живой. Лосей видели только два раза – одного днем, во время работ в периметре, и один раз ночью, во время срабатывания. Вернее сказать, не видели, а слышали, как он от нас уходил. А днем уже, когда был «разбор полетов», шерсть на колючке и следы обнаружили. А лось, которого видели днем во время регламента, когда его вспугнули, перемахнул через забор и спокойно ушел в лес. Ребята, вернувшись с работ, долго делились впечатлением от увиденного». «Сержант, только из учебки пришел, первое заступление в караул. Во время регламента наткнулся на медведя. Прилетает в караулку с вытаращенными глазами, все его, разумеется, на смех подняли, а когда пошли смотреть, то увидели огромную дыру в колючке и клочья рыжей шерсти». «Ночью сработала сигнализация, когда прибежали на участок, то увидели, что нить была оборвана. Оказывается, медведь нас пропустил мимо себя, стоя в кустах. А когда мы его прошли, то услышали за спиной только топот его лап и шум кустов. А потом и явный звук прыжка. Днем пошли разбираться. Было видно по следам, где стоял медведь, куда бежал. На верхней прогнутой нитке колючки нашли немного рыжей шерсти». В октябре 1967 г. полковнику Бондаренко Б.А. было присвоено воинское звание «генерал-майор». В том же 1967 г. 163-й рп 50-й рд был назван лучшим в 43-й РА и награжден Памятным Знаменем Верховного Совета РСФСР. Из всех командиров 50-й рд за всю ее историю Борис Андреевич больше всех находился в должности комдива – семь лет. Наиболее значимыми мероприятиями в этот период в его деятельности были: внедрение системы боевого дежурства на полевых позициях и на пунктах управления, завершение строительства и монтажа шахтного ракетного комплекса 8К63У, оборудование новых позиционных районов ракетных частей, участие в различных проверках дивизии комиссиями вышестоящего командования с оценкой только на «хорошо» и «отлично». Всего за семь лет, когда 50 рд командовал генерал-майор Бондаренко Б.А., было успешно проведено 40 учебно-боевых пусков ракет Р-12 и Р-12У с разных полигонов39. При исследовании летописи 50-й рд в периоде, когда дивизией командовал Борис Андреевич, обнаружилась малоизученная страница ее истории, связанная с вводом войск Варшавского договора в Чехословакию, который состоялся 21 августа 1968 года40. Известно, что, учитывая складывающуюся военно-политическую обстановку, весной 1968 года Объединенным командованием Варшавского Договора совместно с Генеральным штабом ВС СССР была разработана операция под кодовым названием «Дунай». Были сформированы Прикарпатский, Центральный и Южный фронты. Общее количество группировки войск Варшавского Договора для ввода в Чехословакию насчитывало до 500 тысяч человек. Надо отметить, что войска СССР и его союзников заняли все пункты и объекты на территории Чехословакии без применения оружия. Для нашего исследования представляет интерес Прикарпатский фронт (командующий генерал-полковник Бисярин Василий Зиновьевич), который был создан на основе управления и войск Прикарпатского военного округа и нескольких польских дивизий. В его состав вошли четыре армии: 13-я, 38-я общевойсковые, 8-я гвардейская танковая и 57-я воздушная. В состав 8-й гвардейской танковой армии и 13-й армии были дополнительно включены польские дивизии. В Интернете есть сайт об этих событиях 1968 года (www.dunay1968.ru), где размещен перечень воинских частей, участвовавших в операции «Дунай». В этот перечень включена в/ч 32157 (181-й рп 50-й рд) – единственная войсковая часть от РВСН. Очевидно, что ракетный полк из состава РВСН по определению не мог принимать участие в событиях на территории ЧССР. А вот из состава 181-го рп вполне могло быть привлечено какое-нибудь подразделение (взвод, отделение) для выполнения обеспечивающих задач, которое и выступало от номера ракетного полка. Тем не менее, в ходе чехословацких событий РВСН также оставили свой след. Ракетные войска на несколько дней были приведены в повышенную боевую готовность. Как вспоминают ветераны 50-й рд, на стартовые позиции были завезены емкости с компонентами ракетного топлива (КРТ) и головные части. Здесь же на тележках в горизонтальном положении находились ракеты. Головные части к ракетам не пристыковывались, ракеты компонентами ракетного топлива не заправлялись. Для офицеров были отменены отпуска, они находились в гарнизоне. На боевой стартовой позиции находилась дежурная смена, остальные военнослужащие – в казармах. Каждая батарея укрепляла свою позицию окопами круговой обороны. Генерал-майор Бондаренко Б.А. приказал дополнительно строить настоящие блиндажи из бревен. Вероятно, сказывался фронтовой артиллерийский опыт комдива. Еще ветеранам 50-й рд запомнилась жара, которая стояла тем летом. В связи с этим рассказывают такой случай. С заправщиков компонентами ракетного топлива (КРТ) периодически брали пробы. В один раз капля КРТ с пробника попала на маскировочную сеть, под которой находилась техника. КМП загорелось и его горящие ошметки стали падать на бензобак скрытого под сетью автомобиля. Кто-то заорал, кто-то «варежку разинул», а кто-то «ноги в руки и со старта». Водитель нейтрализационно-обмывочной машины 8Т311 не растерялся, включил воду на ствол и окатил сетку, автомобиль ЗИЛ-157 и военнослужащих, бравших пробу. В ноябре 1971 г. генерал-майора Бондаренко Б.А. назначили начальником Пермского высшего военного командного инженерного училища имени В.И. Чуйкова. В ноябре 1973 г. и до выхода в запас Борис Андреевич работал в должности начальника отдела Главного управления военно-учебных заведений МО СССР. В 1985 году он был уволен из Вооруженных Сил по выслуге лет и болезни – инвалид Великой Отечественной войны II степени. 45 лет прослужил генерал-майор Бондаренко Б.А. в рядах Вооруженных Сил и только на передовых рубежах обороны Отечества. Ушел из жизни Борис Андреевич 18 ноября 2007 года. За время службы в ВС СССР Б.А. Бондаренко был награжден девятью орденами и многими медалями (советскими и иностранными), в том числе: двумя орденами Боевого Красного Знамени; орденом Александра Невского; двумя орденами Отечественной войны I степени; орденом Отечественной войны II степени; орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени; двумя орденами Красной Звезды, а также кубинской медалью за участие в стратегической операции «Анадырь».
1.2.1. Командир 431-го гвардейского ракетного Киевско-Ровенского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка (1972 – 1974) 03 февраля 1972 года В.Л. Баранову присваивается очередное воинское звание подполковник, а 02 ноября того же года приказом МО СССР № 01189 он назначается командиром 431-го гвардейского ракетного Киевско-Ровенского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка (в/ч 44023, позывной «Ватерпас»). Это был уже зрелый командир-ракетчик с выработанным индивидуальным стилем руководства и высокой профессиональной культурой. Из пяти ракетных полков, входивших в состав 50-й ракетной дивизии, этот прославленный в годы Великой Отечественной войны гвардейский ракетный полк на протяжении 11 лет (1972 –1982 гг.) являлся в РВСН отличным. 431-й рп был сформирован в июле 1960 года в Бердичеве (Житомирская область) в составе 19-й ракетной дивизии на базе 59-й гвардейской гаубичной артиллерийской бригады. В 1961 году полк вошел в 50-ю ракетную дивизию в составе трех дивизионов, на вооружении которых стояли пусковые установки ракет Р-12 (ракетные комплексы 8К63, SS-4). В 1965 году полк был передислоцирован в Высокую Печь (Житомирская область). Село Высокая Печь (30 км от Житомира) является символичным местом, – здесь, по изысканиям местных краеведов, Петр I отливал в «высоких печах» новые пушки для борьбы со шведами. «50-я ракетная дивизия РВСН, – писал Владимир Лукич Баранов, – дислоцировалась в глубинных районах Украинского Полесья – Олевском, Лугинском, Новоград-Волынском, Емильчинском районах, в бассейне рек Уж, Тетерев, Ирпень, Уборть. Дорожная сеть была развита слабо, крупных предприятий на территории Житомирской области сравнительно мало. Штаб дивизии располагался в Олевском районе. Приходилось учитывать и эти факторы. Правда, за годы службы неоднократно убеждался в простой истине – чем тяжелее условия службы, тем сплоченнее коллектив и тем честнее, радушнее отношение в нем»41. 01 декабря 1984 года полк был перевооружен на ракетный комплекс РСД-10 «Пионер-К» (15П645К, SS-20). К сожалению, 30 марта 1991 года полк был расформирован. Этим прославленным полком командовали: полковник Михайлов В.Н. (1960 – 1966); подполковники Седых В.С. (1966 – 1970); Герасимов В.И. (1970 – 1972); Баранов В.Л. (1972 – 1974); Семенов А.И. (1974 – 1975); Ляхненко А.Ф. (1975 – 1979); Ющенко В.П. (1979 – 1982); Петелин Л.П. (1982 – 1986); Тихонов В.Н. (1986 – 1991). Заместитель начальника Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского, с которым у меня сложились очень хорошие отношения, генерал-лейтенант Титаренко Андрей Иванович писал: «…Подполковник Владимир Лукич Баранов (431 рп). Здесь следует сказать, что этот полк был одним из лучших в дивизии, но заслуга в этом по праву принадлежала предыдущему ему командиру подполковнику Владимиру Ивановичу Герасимову, который обладал завидными качествами организатора и воспитателя одновременно, а также умением правильно строить отношения и с подчиненными, и с начальством. Это, конечно, помогло ему добиться очень высоких результатов в своей военной карьере… Заслуга подполковника В.Л. Баранова состояла в том, что он не растерял успехов, достигнутых полком до него, а закрепил и развил их, – 431 рп в 1973 году был занесен в Книгу почета Военного совета Ракетных войск как лучшая часть, вооруженная РСД» 42. Надо несколько добрых слов сказать в адрес генерал-полковника Герасимова В.И. В 50-й ракетной дивизии он прошел славный боевой путь от командира ракетного дивизиона, заместителя командира 431-го рп, командира 431-го ракетного полка, заместителя командира 50-й рд. Затем он командовал 37-й рд, был первым заместителем командующего 31-й РА, командующим 31-й РА, начальником 12-го Главного управления Минобороны. Обратим ваше внимание, дорогой читатель, на то, что Баранов В.Л. принимал и 37-ю рд также из рук Герасимова В.И. В 2021 г., поздравляя Андрея Ивановича Титаренко по телефону с Днем Ракетных войск, я спросил его про Владимира Лукича. Он ответил: «Это был зрелый командир и грамотный организатор. Под его руководством 431-й ракетный полк сохранил звание «отличного», а при его непосредственном участии в полку внедрялась единая система несения боевого дежурства в Ракетных войсках». Действительно, звание «отличного полка» обязывает нового командира не утерять традиций, а умножить их подтверждением высокого звания «отличного полка». А это нелегкая задача. В.Л. Баранов вспоминал43: «Назначение на должность командира полка происходило в напряженной обстановке: страна и ее Вооруженные Силы готовились торжественно встретить 50-летие образования СССР. В воинских частях и соединениях развернулось социалистическое соревнование по достойной встрече юбилея. Этот накал чувствовался и в полку, куда я прибыл после представления командованию дивизии. Командир дивизии полковник Борис Иванович Лобанов достаточно подробно охарактеризовал обстановку в полку: «Полк на подъеме. Прежнего командира полковника Владимира Ивановича Герасимова в полку очень уважали. Будет трудно, предстоит подготовиться к проверке командующего на подтверждение звания отличного полка. Уточните план подготовки, доложите и организуйте исполнение». Приняв полк, доложил командиру дивизии и включился в подготовку полка к юбилею и проверке. Опирался целиком на заместителей, командиров подразделений и начальников служб: начальника штаба подполковника Леонида Дмитриевича Ефимова, заместителя командира полка подполковника Анатолия Ивановича Семенова, главного инженера полка подполковника Валентина Ивановича Клименко, заместителя по политчасти подполковника Виктора Владимировича Хомякова, заместителя по тылу подполковника Евгения Семеновича Лаптева, командира 1-го дивизиона подполковника Алексея Григорьевича Аксенова, командира 2-го дивизиона подполковника Анатолия Петровича Будника, начальника ртб подполковника Владимира Ивановича Зенина. Вместе уточнили планирование по каждой задаче на месяц, неделю, день. Главное – не нарушая установленный порядок поддержания постоянной боевой готовности к выполнению боевых задач, организации боевого дежурства, поддержания ракетного вооружения в постоянной боевой готовности к применению, необходимо:
Последний пункт оказался особенно трудным. Танкисты выполняли боевые задачи согласно директиве Генерального штаба ВС СССР, и если в ней отсутствовали конкретные указания о порядке и первоочередности использования маршрутов и полевых районов совместно с РВСН, то никакие доводы о государственной важности выполняемых РВСН боевых задач на танкистов не действовали. Данный вопрос не решается на уровне ракетного полка, дивизии и даже ракетной армии. Только на уровне Генерального штаба ВС СССР. Лично я в этом убеждался неоднократно, будучи командиром дивизии, расположенной в пяти областях, и начальником штаба 33-й ракетной армии. В данном случае действия полка были согласованы со штабом 8-й танковой армии конкретно на период предстоящего учения. В отдельную задачу был выделен военный городок, где проживали семьи военнослужащих, – пять ДОСов44, котельная ДКВР, Дом офицеров, детские учреждения, магазины, школа, медпункт. Предстояло проверить их состояние и при необходимости решить целый комплекс работ: подготовка к зиме зданий, сооружений и теплотрасс, заготовка (доставка) угля (1 000 т на зиму), противопожарные мероприятия, постоянная готовность медицинской машины и автобусов для доставки населения городка в город Житомир. Те, кто командовал полком РСД или дивизией ОС, согласятся, что военный городок отнимает много сил, иногда это соизмеримо с затратой нервной и физической энергии, отдаваемой на боевых позициях. По каждой обозначенной задаче был определен ответственный, лично возглавлявший фронт работ не из кабинета, а на месте проведения. Лично я ежедневно посещал все точки, заслушивал состояние работ и изменения за прошедшие сутки. Необходимые решения принимались на месте. Пятьдесят лет моя служба связана с Вооруженными Силами, но я не перестаю удивляться возможностям, изобретательности и инициативе наших людей. Когда закипела работа, по всей области разъехались представители полка в поисках необходимых материалов. Использовались знакомства, личные связи, уточнялись условия и наши возможности. А когда обозначились первые успехи, засияла чистотой и полированными столами казарма стартовых батарей первого дивизиона, люди поверили в свои силы, и работа все более становилась творческой. Особо хочется остановится на совершенствовании учебно-материальной базы. В общем-то, она в полку была создана и функционировала. Однако, как говорится, совершенствованию нет предела. Тем более, что для подготовки боевых расчетов командных пунктов полка и дивизионов не было тренажеров. К тому времени боевые командные пункты были укомплектованы аппаратурой АСУ, на которой мы несли боевое дежурство. Стоило допустить ошибку во время тренировки с вышестоящими звеньями, командир дежурных сил (КДС) или оператор отстранялись от боевого дежурства до повторной сдачи зачетов на допуск с соответствующими административными выводами и дисциплинарными наказаниями. А на чем учиться и тренироваться? Приходилось ездить в штаб дивизии для подготовки и сдачи зачетов. Можно представить, с какой «любовью» относились офицеры командных пунктов к данной аппаратуре, хотя, в принципе, аппаратура была не виновата. Сейчас в это трудно поверить, но положение с тренажерами обстояло именно так. Было принято решение о создании тренажеров для учебных командных пунктов полка и дивизионов. Здесь, однако, одного решения было мало. Нужны были инженеры по электронике и автоматике, инженеры-электрики и механики, инженеры конструкторы и аппаратчики. Нужны были радиодетали и различные элементы автоматики для создания тренажеров – имитаторов различных блоков АСУ. И таких инженеров мы нашли – это выпускники гражданских вузов, призванные на службу после окончания институтов на два года. Надо было видеть, как загорелись у них глаза, с каким азартом они принялись за работу! Сами планировали состав команд, начертили рабочие схемы блоков, составили список необходимых материалов, радиодеталей и приборов, командировали несколько человек на заводы, где работали до призыва в армию. В радиомастерских ближайших городов закупили десяток списанных телевизоров и радиоприемников и разобрали их на детали. Одновременно в учебных корпусах оборудовались учебные КП полка и дивизионов. Трудно поверить, но через два месяца наши тренажеры заработали! Наряду с удовлетворением пришло осознание того, что самое трудное впереди. Предстояло выдержать проверку командующего 43 РА на подтверждение полком звания отличного. И хотя перед экзаменом всегда не хватает одного дня, к началу проверки, в основном, мы выполнили намеченную и утвержденную командиром дивизии программу. Комиссию возглавлял лично командующий армией генерал-полковник Алексей Дмитриевич Мелехин. Под проверку командующего я попадал и раньше. На собственном опыте знал, что командующий довольно суров, но справедлив и никогда не унижал достоинство подчиненных, за что его все и уважали. Командующий заслушал командование полка и со словами: «Я покажу вам отличный полк!» – начал учения. В памяти остались труднейшие погодные условия (ночь, пурга, мороз, гололед!) и настоящий героизм и самоотверженность личного состава. Какие замечательные люди! После учения подразделения полка были проверены по основным дисциплинам боевой и политической подготовки, оценено состояние внутреннего порядка, воинской дисциплины и воспитательной работы. По результатам проверки 431-й ракетный полк 50-й ракетной дивизии подтвердил звание отличного полка, был награжден Юбилейным почетным знаком и занесен в Книгу почета Военного совета РВСН. За высокие результаты в социалистическом соревновании 431-й ракетный полк был награжден Переходящим Знаменем Военного совета Ракетных войск стратегического назначения. Таким «урожайным» стал для нас 1973 год! Юбилейный почетный знак – вид государственной награды для воинских коллективов. Утвержден он был 22 июня 1972 года постановлением ЦК КПСС, Совета Министров и ВЦСПС в ознаменование 50-летия образования СССР. Им награждались воинские части, соединения и военно-научные заведения, добившиеся к юбилею наиболее высоких показателей в боевой и политической подготовке. Юбилейный почетный знак 431 рп вручал первый заместитель командующего 43 РА генерал-лейтенант Александр Николаевич Бровцин. Переходящее Знамя Военного Совета РВСН 431 рп вручал член Военного совета РВСН генерал-полковник Петр Андреевич Горчаков. В сентябре 1973 года в полк приехала группа сотрудников Военного отдела ЦК КПСС для обобщения передового опыта работы командования 431-го ракетного полка. Вместе с ними прибыли журналисты и операторы киностудии Министерства обороны. В результате 15 ноября 1973 года в газете «Красная Звезда» нашему полку была посвящена вторая страница, а в телевизионной передаче «Служим Советскому Союзу» показали фильм о Киевско-Ровенской Краснознаменной орденов Ленина, Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого гвардейской части, Боевое (фронтовое) Знамя которой было вручено 431 рп при его формировании.
Началось испытание полка… «медными трубами». Вместе с тем продолжались рабочие будни, – боевое дежурство и постоянная ответственность за боевую готовность вверенных подразделений и частей, которые были, есть и будут основой жизни и службы РВСН. В заключение хотелось бы отметить участие в торжествах, посвященных 30-летию освобождения города Ровно от немецко-фашистских захватчиков войсками 1-го Украинского фронта в феврале 1944 года. Торжества проводились местными советскими и партийными органами. На праздник были приглашены участники боевых действий, партизаны и представители воинских частей, освобождавших город Ровно. Получили приглашение и несколько человек от нашего Киевско-Ровенского полка. Об участии в этих прекрасно организованных торжествах остались теплые воспоминания.
Прошло более 30 лет с той памятной поры, а в душе до сих пор огромное удовлетворение от того, ЧТО и КАК мы сумели сделать, остается чувство большой благодарности всему коллективу 431-го дорогого мне ракетного полка. В памяти у нас, ветеранов-однополчан 431-го рп, живет тот патриотический порыв, с которым мы встречали славный юбилей Великого Советского Союза». На торжествах по случаю 30-летия освобождения г. Ровно от немецко-фашистских захватчиков В.Л. Баранов познакомился и общался с родным братом легендарного разведчика Николая Ивановича Кузнецова Виктором Кузнецовым. Мне из рассказа Владимира Лукича эта встреча была очень интересной, так как мой близкий родственник А.Г. Тимощук в должности политрука роты партизанского соединения под командованием В.А. Бегмы, которое базировалось на территории моей Малой родины Полесья, привлекался для обеспечения выполнения Николаем Ивановичем отдельных заданий. За эту боевую деятельность Александр Григорьевич был награжден орденом Ленина.
В декабре 1973 г. 431-й рп был занесен в книгу Почета Военного совета РВСН как лучшая часть 43-й РА. Затем в течение двух последних лет он подтвердил звание отличный полк. Символично, что 431-й рп в 1979 г. снова был занесен в Книгу почета Военного Совета РВСН. Владимир Лукич также оставил свой добрый след в полку. Генерал-лейтенант Козлов Александр Васильевич, который всегда был открыт для общения со мной, хотя и занимал разные достаточно большие должности (заместитель начальника Главного штаба РВСН, начальник кафедры оперативного искусства ВА РВСН, первый заместитель министра социальной защиты правительства Московской области), в 50-й рд начал службу в 1971 году с должности начальника отделения стартовой батареи и закончил в 1987 году в должности начальника штаба дивизии (при этом он последовательно продвигался по служебной лестнице, не пропустив ни одной из ее ступенек и успел послужить во всех ракетных полках дивизии) писал45: «В 431 рп я впервые столкнулся со штабной работой, и здесь моим учителем стал майор Конанчук… Полк поразил меня идеальным, что говорится, с иголочки внутренним порядком в подразделениях и на территории. Никогда и нигде подобного не встречал. Это была заслуга командира полка подполковника В.Л. Баранова и командира дивизиона подполковника В.М. Коржа. Я их на этих должностях не застал, но традиции, ими заложенные, жили и ревностно поддерживались всем личным составом». Начальник группы боевой подготовки Главного штаба РВСН (1987 – 1994) полковник Бакун Леонид Григорьевич пишет46: «Июнь 1978 года… По окончании Военной инженерной академии имени Ф.Э. Дзержинского я был назначен на должность командира стартовой батареи в часть, которая дислоцировалась в селе Высокая Печь (Житомирская область). Чуть позднее узнал, что эта часть входит в состав 50 рд и числится под официальным номером – 431-й ракетный полк. Это был один из гарнизонов Белокоровичской дивизии. Здесь я впервые познакомился с офицерами, прапорщиками, сержантами и солдатами, которые несли нелегкую службу, как мы шутили, в «Украинском Забайкалье». Главная особенность службы в гарнизоне села Высокая Печь – это жизнь в полку… от подъема до отбоя. Если в какой-то из дней у тебя нет комплексных занятий (батарея, к примеру, выполняет задачу по несению караульной службы), а у соседа идет проверка боевой готовности, то ты обязательно там. Перенимать же опыт работы командиров батареи, уже имевших практику руководства личным составом – это поначалу было моим «хобби». Уже весной 1973 года командующий 43-й армией генерал-полковник А.Д. Мелехин (моя 2-я стартовая батарея занимала исходное положение постоянной боевой готовности после выхода в УБСП и получила общую отличную оценку) сказал командиру 50-й рд, показав на меня: «Вы говорите, что у Вас нет достойных командиров дивизионов? Вот он перед Вами» (напомним, командиром 431-го рп в то время, когда там служил Бакун Л.Г., был В.Л. Баранов, – ремарка автора). Все это в прошлом, а когда приходят мысли о военной службе того времени, чаще всего вспоминаются «трудные» годы того времени, именно те места, где ты отдавал себя одной цели – служению Родине. Я остаюсь при мнении, что любовь к 50-й ракетной дивизии мне привили мои командиры и начальники: Б.И. Лобанов, Н.И. Куринной, Н.М. Чичеватов, В.И. Герасимов, В.Л. Баранов, Н.И. Моложаев, Е.А. Аладко».
1.2.2. Начальник штаба 50-й ракетной Краснознаменной дивизии (1974 – 1976) Владимир Лукич Баранов вспоминал:47 «В мае 1974 г. меня назначили начальником штаба 50 рд. Этому назначению я был рад не только потому, что гордился оказанным мне доверием, но и потому, что предстояло служить и работать под непосредственным командованием генерала Бориса Ивановича Лобанова, человека умного, интеллигентного, командира выдержанного, уважительного к собеседнику и его мнению. Борис Иванович обладал тонким чувством юмора и создавал вокруг себя доброжелательную творческую обстановку. На мой взгляд, коллектив заместителей и начальников служб управления дивизии подобрался соответствующий. Это начальник политотдела Игорь Иванович Куринной, заместитель командира Андрей Иванович Титаренко, заместитель командира по ракетному вооружению Владимир Константинович Корчак, начальник оперативного отделения Василий Иванович Шумарин, начальник тыла дивизии Борис Каленикович Мосинзов. Я окунулся с головой в работу, которой было, как говорится, море. Но дело мне знакомое – прошел все должности начальника штаба, начиная с дивизиона. Большое внимание стал уделять начальникам штабов дивизионов и полков, используя для этого выезды в части и плановые сборы в дивизии48. Мое назначение на должность начальника штаба дивизии совпало с активной подготовкой к переходу Ракетных войск на единую систему несения боевого дежурства в масштабе РВСН. Накопленный к этому времени опыт по организации и несению боевого дежурства (в том числе и в 50 рд) говорил о необходимости упорядочения состава дежурных смен и расчетов, установления единой продолжительности непосредственно боевого дежурства на всех пунктах управления, на боевых стартовых и технических позициях. Боевое дежурство в РВСН стало высшей формой поддержания боевой готовности войск и оружия. Оно осуществляется постоянно, круглосуточно, в любое время года и в любую погоду. Благодаря этому РВСН стали войсками постоянной готовности, гарантированной силой сдерживания любого потенциального агрессора. Приближалась проверка дивизии комиссией главкома РВСН. Готовились мы к ней тщательно: знали требовательность нашего главнокомандующего. Генерал армии Владимир Федорович Толубко лично вникал во все тонкости, являя собой прекрасный пример отношения к порученному делу. На этой проверке я получил урок лично от главнокомандующего. В.Ф. Толубко проводил заслушивание. По окончании моего доклада главком подошел к карте, указал на 2-й ракетный дивизион 181 рп и изъявил желание немедленно выехать в полк. Сопровождать его было приказано мне лично. Поехали прямо на боевую позицию, где главком тщательно проверил все огневые сооружения и вышки вплоть до целостности стекол, печей отопления и состояния связи. Проверкой он был удовлетворен. Во время моей службы в РВСН судьба несколько раз давала возможность близко видеть и слышать этого прекрасного, беззаветно преданного Ракетным войскам, достойного подражания человека и главнокомандующего. Да, были люди в наше время! Нам было у кого учиться. Считаю, что самой большой удачей для Ракетных войск было то, что в рядах стратегических ракетчиков несли службу тысячи ветеранов Великой Отечественной, которые прошли горнило войны и победили. Они обладали обостренным чувством ответственности за безопасность Родины, заложили основы высокого уровня боевой готовности, создали отлаженную систему боевого дежурства. Благодаря им, их «науке побеждать» Ракетные войска до сих пор боеготовые и управляемые. РВСН в любую минуту могут выполнить поставленные перед ними задачи по сдерживанию агрессии и нанесению, в случае необходимости, ракетно-ядерных ударов. Мы все прошли эту школу. С благодарностью вспоминаю своих учителей. Здесь следует оговорится и уточнить следующее. Речь идет не об учебе в классическом ее представлении., т.е. аудитории, занятия, лекции и т.д. Просто мы имели счастье наблюдать и перенимать опыт, методику и приемы их работы, как с подразделениями, так и отдельно с каждым человеком (офицером, прапорщиком, сержантом, солдатом). Среди военачальников, с которых я в течение своей службы старался брать пример, хочется назвать: главного маршала артиллерии Владимира Федоровича Толубко, члена Военного совета РВСН Петра Андреевича Горчакова, генерал-полковников Алексея Дмитриевича Мелехина, Юрия Петровича Забегайлова, Георгия Николаевича Малиновского, Вадима Серафимовича Неделина, генерал-лейтенанта Александра Николаевича Бровцина, генерал-майоров Николая Васильевича Лапшина, Бориса Ивановича Лобанова. Всегда буду хранить чувство благодарности к своим сослуживцам и прекрасному человеку командиру 50-й ракетной дивизии генерал-майору Борису Ивановичу Лобанову». Надо сказать, что к моменту назначения начальником штаба дивизии В.Л. Баранов, помимо огромного служебного опыта, принимал непосредственное участие в постановке на боевое дежурство трех ракетных полков и участие в подготовке и проведении семи учебно-боевых пусков, в том числе и с боевой стартовой позиции49. В аттестации для выдвижения Владимира Лукича на должность начальника штаба 50-й рд записано: «Сформировался как самостоятельный командир, способный правильно оценить обстановку, принимать необходимые решения и организовывать их выполнение». Интересно, что не только Владимир Лукич добрым словом вспоминает своих коллег по управлению и штабу 50-й рд, но и они сохранили теплые воспоминания о нем. Так, легендарный человек 43-й ракетной Краснознаменной армии член Военного совета – начальник политотдела армии генерал-майор Гасаненко Леонид Григорьевич, который в 1975 – 1979 гг. в 50-й рд занимал должность начальника политотдела, вспоминает50: «…Мне посчастливилось занимать должность начальника политотдела Белокоровичской ракетной дивизии 43 РА РВСН… Прошло много времени, но я с удовольствием и уважением вспоминаю совместную работу с В.М. Иванушкиным, Н.М. Чичеватовым, В.Л. Барановым, В.А. Федоровым, В.И. Малышко, В.М. Недужим, Г.З. Назаренко и многими другими».
Генерал-лейтенант Титаренко А.И. пишет51: «В 1974 году подполковник В.Л. Баранов был назначен на должность начальника штаба 50 рд вместо полковника Г.А. Рышкова, переведенного с повышением в 43 РА. Кстати сказать, наши пути пересеклись уже в 1984 году, когда я был назначен на должность заместителя начальника ВИА им. Ф.Э. Дзержинского, где генерал-майор Г.А. Рышков в то время уже возглавлял кафедру оперативного искусства, а в 1986 году его сменил как раз генерал-майор В.Л. Баранов». Штаб ракетной дивизии совместно с другими отделами управления 50-й рд работали как единый организм. Обстановка того требовала: внедрение новых общевоинских уставов ВС СССР, перевод РВСН на единую систему боевого дежурства, повышение роли Ракетных войск в практике международных отношений, связанных с проблемой обеспечения военного паритета и стратегической стабильности. В этой связи первый заместитель начальника политотдела 43-й Ракетной армии полковник Гуськов Александр Николаевич писал52: «…Мысли о роли политорганов в Вооруженных Силах СССР. Анализируя свою службу в Белокоровичах (1962 – 1975 гг.), из которых пять лет непосредственно в политотделе 50 рд, никак не возьму в толк, зачем их (говорю о политотделах вообще) уничтожили, да еще с такой злостью и ненавистью, почему ликвидировали партийные и комсомольские организации?.. Мы, коммунисты этого звена, сами не воровали и другим не позволяли, сами не нарушали законы, нормы правила, положения и требования общевоинских уставов и другим не разрешали этого делать… Наиболее важные вопросы выносились для обсуждения на партконференциях, семинарах, собраниях партактивов. Девиз этой работы был следующий: «Подбор, расстановка, учеба, спрос». Деятельность политотдела в этом направлении активно поддерживали командир дивизии Б.И. Лобанов и его заместители В.К. Корчак, В.Л. Баранов, Г.А. Рышков, В.И. Герасимов». Полковник Сташкевич А.Д., который в бытность Владимира Лукича начальником штаба 50 рд занимал должность начальника связи 50 рд, а службу закончил начальником войск связи 43 РА, писал53: «…Хочу с удовольствием и благодарностью отметить, что на протяжении всех этапов становления дивизии активно, со знанием дела, участвовали в создании и развитии надежно функционирующей связи начальники штаба дивизии полковники М.Т. Арсентьев, А.С. Рябцев, Г.А. Рышков, В.Л. Баранов, И.И. Моложаев. Будучи начальником узла связи, а затем начальником связи дивизии, я находился в непосредственном подчинении у полковника В.Л. Баранова. Хочется несколько слов сказать о нем. Это исключительно грамотный офицер и высокоэрудированный человек. Закончил два вуза – военный и гражданский. Свободно владел английским языком. Постоянно работал над собой. В период, когда В.Л. Баранов занимал должность начальника штаба дивизии, в войсках внедрялись новые общевоинские уставы ВС СССР. Он много труда вложил в их внедрение в 50-й ракетной дивизии. На занятия, которые он проводил, офицеры шли с удовольствием и с большим интересом его слушали. С должности начальника штаба дивизии полковник В.Л. Баранов был назначен командиром 37 рд (г. Луцк), где стал генералом, а затем возглавил штаб ракетной армии в г. Омске. Успешно защитил диссертацию на звание кандидата военных наук. Приятно вспомнить о совместной работе с таким человеком… Поистине, если человек по-настоящему ХОРОШИЙ, то это уже навсегда!» 22 ноября 2020 г. генерал-лейтенант Козлов А.В. по телефону рассказал мне следующее: «Добрый день, Михаил! С Владимиром Лукичом Барановым мне пришлось служить в 50 рд. Он был начальником штаба ракетной дивизии, а я – начальником штаба 2-го ракетного дивизиона 431 ракетного полка (в/ч 44023, пос. Высокая Печь, 1974 – 1975). Владимир Лукич был очень уважаемый среди офицеров дивизии человек. Высокообразованный (свободно говорил на английском языке), остроумный, грамотный ракетчик. Много внимания уделял подготовке нас – молодых начальников штабов ракетных дивизионов. Помню такой эпизод. Идут занятия с начальниками штабов рдн и полковник Баранов говорит: «Однофамилец! К доске!» Сижу, думаю: «Кто это у нас еще один Баранов?» А Владимир Лукич подходит к моему столу и говорит: «Вы, что, – не знали, что Козлов и Баранов однофамильцы?». Все рассмеялись и общее напряжение спало, офицеры на вопросы отвечали свободнее, тема занятия показалась не такой уж и страшной».
В своих воспоминаниях Александр Васильевич писал54: «Подполковник В. Л. Баранов с должности командира полка был назначен начальником штаба 50 рд. Он очень много внимания уделял учебе и всесторонней подготовке работников штабов полков и дивизионов. Поработать пришлось изрядно. Мое усердие командование дивизии заметило и отметило: мне досрочно присвоили воинское звание капитан. Было предложение назначить меня на должность командира дивизиона, от которой я отказался, мотивируя отказ тем, что имел мало опыта для этой должности, но через некоторое время предложение повторили. Я согласился и был назначен командиром 2-го дивизиона 432 рп». Прошли годы, Владимир Лукич, уже будучи военным пенсионером, был избран в состав Совета ветеранов 50 рд55. На одной из встреч Борис Андреевич Бондаренко предложил написать исторический очерк о дивизии. Совет ветеранов 50 рд, куда входил и В.Л. Баранов, единогласно поддержали это предложение. В 2004 г. книга была издана56. В 2006 г. эту книгу ветераны дивизии дополнили и переиздали. Книга и сейчас пользуется большим спросом. Интересно отметить, что экземпляры этой книги ветераны дивизии переслали в библиотеки тех населенных пунктов на Украине, где дислоцировались войсковые части 50-й рд.

 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||